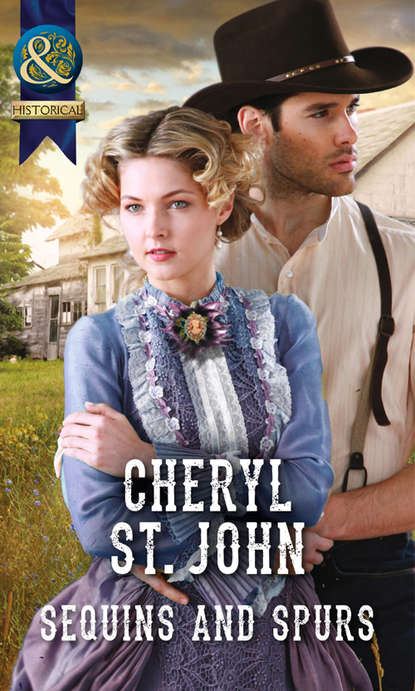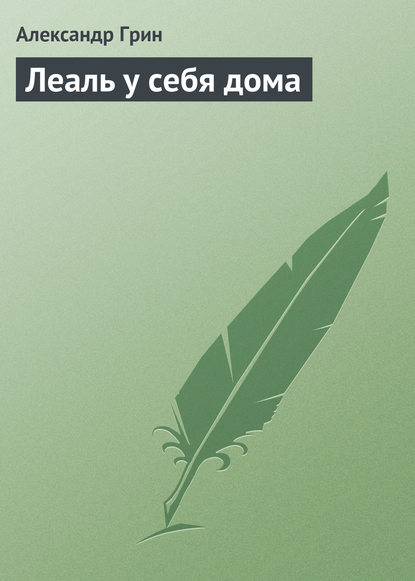Панацея. Метод «Нейроприсутствие». От выживания к жизни
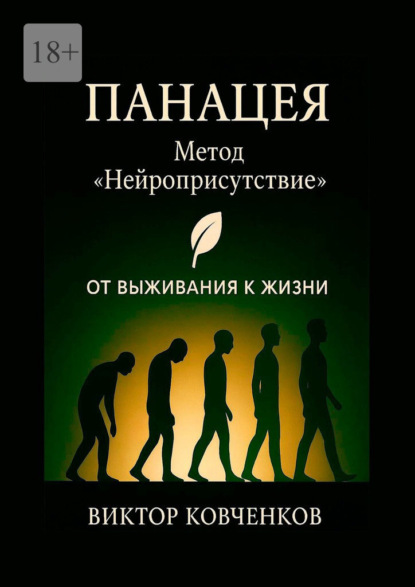
- -
- 100%
- +
Для человека же всё может пойти иначе. Наша способность сознательно вмешиваться в процесс – одновременно дар и проблема. Мы можем не позволить телу завершить цикл: принудительно встать, подавить дрожь, «держать ситуацию под контролем», продолжать жить как будто ничего не случилось. И тогда оцепенение остаётся незавершённым – а это чревато.
Когда оцепенение не завершено
Если процесс возвращения не произошёл вовремя – угроза не прошла или мы вынуждены «выйти» из оцепенения раньше, чем тело закончит расчёт – переживание остаётся внутри. Мышцы сохраняют напряжение, органы помнят сжатие, психика запоминает «осколки» опыта. Эти непереработанные шрамы – и есть та самая материальная основа будущих симптомов: бессонница, хроническая боль, постоянная тревога, навязчивые мысли.
Подчинение
Когда оцепенение не спасает, организм ищет последний шанс выжить.
И этот шанс – подчинение.
Это древний механизм, который включается, когда все пути перекрыты:
• бороться опасно,
• убежать невозможно,
• притвориться мёртвым не сработало.
Тогда тело принимает стратегию: «Я сдаюсь. Я стану безопасным для хищника. Я сделаю всё, чтобы меня не уничтожили».
Как это выглядит у животных
В природе можно увидеть, как собака, проиграв драку, ложится на спину, открывает живот и замирает. Она словно говорит: «Я слабее, я не представляю угрозы».
Часто это спасает ей жизнь: победитель теряет интерес и перестаёт нападать.
У оленей или приматов подчинение может выражаться в том, что они принимают позу, демонстрирующую слабость: опущенные плечи, отвёрнутый взгляд, свёрнутая поза.
Для животного это выход. Оно теряет часть свободы – но сохраняет жизнь.
Как это проявляется у человека
У людей механизм работает глубже.
Тело, однажды выбравшее подчинение как стратегию выживания, может закрепить его как стиль жизни.
Это значит:
• голос становится тише, как будто «не надо шуметь»;
• движения ограничены, будто телу нельзя быть быстрым;
• уверенность и гордость обрезаются на корню, потому что «это опасно»;
• внутри постоянно неприятное ощущение: «Я не имею права. Я должен быть маленьким».
Вместо одного конкретного события оно превращается в общий фильтр восприятия:
• в отношениях – страх сказать «нет»;
• в работе – привычка соглашаться, даже когда это разрушает;
• в семье – бесконечное «я должен», без права на свои желания.
Организм буквально вырубает функции, которые когда-то могли привести к опасности.
Если гордость обернулась унижением – гордость блокируется.
Если смелость привела к боли – смелость выключается.
Если ярость вызвала ещё больше агрессии – злость подавляется.
Также происходит влюбленность к обидчику, дабы подчинение принесло больше шансов выживания. Из этого получаются отношения «горки», где яркие выражения любви и ненависти присутствуют на постоянной основе. Более близкое нам название «токсичные отношения».
Результат: человек остаётся в живом теле, но с урезанным внутренним набором. Самооценка падает – потому что многие качества, которые давали энергию и выбор, просто «выключены». И чем больше таких травм, тем ярче депрессия.
Стивен Порджес в своей теории поливагуса объясняет: оцепенение и подчинение – это не слабость, а древний способ нервной системы сохранить жизнь.
Чтобы научиться правильно пользоваться методом и не отвлекаться на лишнее, важно ясно видеть: что именно делает с нами травма, какие следы она оставляет в теле и психике.
И об этом – следующая глава, где мы разберём, как травма фиксируется в теле и как её заметить.
ГЛАВА 4. Последствия травмы
Травма – это не просто эпизод в прошлом. Это незавершённый процесс, который продолжает жить внутри.
В момент перегруза нервная система делает всё, чтобы мы выжили: включает борьбу, бегство или оцепенение. Иногда поверх этого возникает то, что можно назвать дигитальностью – ум словно выходит из тела, внимание рассыпается, картинка становится «плоской», будто смотришь жизнь через стекло.
Что происходит в мозге
В стрессовый момент работают два ключевых отдела мозга:
• Гиппокамп – связывает события в логическую цепочку (кто, где, когда).
• Амигдала (миндалина) – мгновенно оценивает угрозу и запускает эмоции (страх, тревогу, ярость).
По данным нейропсихолога Даниэля Сигела, гиппокамп и амигдала тесно связаны: полноценная переработка опыта возможна только, когда эмоция соединяется с контекстом.
Но при слишком сильной нагрузке система ломается:
• Гиппокамп уходит в тень → событие теряет контекст, остаются обрывки.
• Амигдала перегружается → эмоции не проживаются до конца.
• Тело замирает → чувствительность приглушается, чтобы пережить момент.
Итог один: цикл не завершён, а значит – часть переживания застряла.
Память – рваная, эмоция – незавершённая, тело – в защите.
Поэтому спустя годы любой мелкий триггер нажимает ту же кнопку – и нас «возвращает» туда, где цикл оборвался.
Коротко: травма – это не «плохая память», а незавершённая реакция тела и психики.
Чтобы освободиться, нужно завершить её именно в теле.
Как травма проявляется в жизни
Травма разговаривает с нами – иногда шёпотом, иногда громко.
Чтобы легче было узнавать себя, выделю три условных уровня сигналов. Это не диагнозы, а ориентиры.
Мягкий уровень (фон):
• тело: утомляемость, «туман в голове», привычные зажимы в плечах/шее, поверхностное дыхание;
• мысли: лёгкая тревожность, склонность «перемалывать» сценарии наперёд, самокритика;
• поведение: избегание некоторых тем или людей, желание держать всё под контролем.
Как показывает Роберт Рихи, такие автоматические мысли – типичный пример незавершённых циклов травмы; они повторяются, пока не проработаны.
Что можно сделать: мягко вернуть внимание в тело – почувствовать опору (стул, пол), положить ладони на живот, сделать 5 выдохов чуть длиннее вдоха.
Средний уровень (ярко, но терпимо):
• тело: дрожь, волны напряжения, «ком» в горле, тяжесть в груди;
• восприятие: звуки и свет то слишком сильные, то «никакие», будто мир «пластмассовый»;
• мысли/образы: вспышки воспоминаний, навязчивые картинки, желание срочно что-то сделать (убраться, написать, убежать).
Что можно сделать: признать – это волна, и она проходит. Остаться с телесными ощущениями. Если становится слишком тяжело – допустимо снять напряжение привычным и безопасным способом (прогулка, душ, уборка, готовка и так далее), а потом вернуться в тело.
Высокий уровень (шторм):
• диссоциация / дигитальность: ощущение «я не в теле», «смотрю со стороны», «мира как будто нет»;
• эмоции: паника, ярость, отчаяние – или наоборот пустота;
• импульсы: резко встать, убежать, всё бросить, «исправить жизнь немедленно».
Что можно сделать: сначала – безопасность. Почувствовать телом опору, посмотреть по сторонам и назвать 5 предметов, услышать спокойный голос рядом. И только потом мягко вернуться к телу.
Важно: шторм – это тоже процесс. Он завершается.
Даже 2—3 минуты присутствия в теле – шаг вперёд. Малые дозы, но регулярно – надёжнее, чем редкие «рывки».
Линза травмы и повторение
Когда цикл не завершён, травма превращается в линзу, через которую мы смотрим на мир.
Например, один опыт предательства запускает глобальную карту: «людям доверять нельзя». И вот уже отношения, работа, дружба – всё окрашено одной краской.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.