Перевал Дятлова. Во власти неведомой силы.
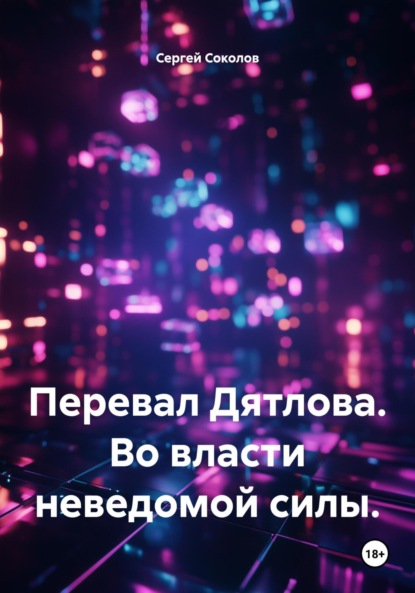
- -
- 100%
- +

Пролог.
В начале февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области произошло трагическое происшествие. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе при невыясненных обстоятельствах. По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой.
В уголовном деле обстоятельства происшествия изложены так:
"23-го января 1959 года самодеятельная группа туристов в составе 10 человек отправилась в лыжный поход по маршруту Ивдель – гора Отортен. От участка 2-й Северный в лыжный поход пошло 9 человек. 1 февраля 1959 года группа начала восхождение к горе Отортен и вечером разбила палатку у высоты 1079.
В ночь на 2 февраля при невыясненных обстоятельствах произошла гибель всех 9-ти человек."
В постановлении о прекращении уголовного дела сказано:
"Произведённым расследованием не установлено присутствие 1 или 2 февраля 1959 года в районе высоты "1079" других людей, кроме группы туристов Дятлова.
Учитывая отсутствие на всех [погибших] наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии".
Расследование происшествия было закончено, но остались вопросы:
1. Что произошло на склоне горы 1079 в ночь трагедии?
2. Как это произошло?
3. Почему это произошло?
Ответы на эти вопросы попытался найти автор в предлагаемой вашему вниманию художественной повести "Перевал Дятлова. Во власти неведомой силы".
Прототипы героев повести легко узнаваемы. Ими являются реальные участники тех событий. Сюжет повести основан на реальных фактах и событиях из жизни прототипов героев.
Итак, погружаемся в атмосферу событий 1959 года.
Глава 1. Семён.
Поезд шёл на север. Тихо стучали колёса на стыках. Старенький зелёный вагончик слегка покачивался под стук колёс, унося пассажиров в холодную даль морозной уральской тайги. За окном была безлунная тёмная ночь, лишь изредка мелькали тусклым светом одинокие станционные фонари на разъездах. Под потолком еле-еле светилась лампочка ночного освещения в мутном от времени плафоне. Время спать.
Симпатичный стройный молодой человек спортивного телосложения с красивым южным загаром и густыми чёрными усами скинул меховые бурки, залез на верхнюю полку, положив под голову меховой жилет на чёрной овчине, отвернулся к стенке и быстро заснул. Шёл январь 1959 года. Коричневая деревянная полка общего вагона пассажирского поезда для многих была привычным уровнем комфорта, и уставший за день молодой человек, удобно расположившись на ней, погрузился в спокойный, крепкий сон. Тусклая лампочка под самым потолком спать не мешала.
Молодого человека звали Семён. Семёну было 37 лет. Спал Семён крепко. Но в последнее время к нему стали часто приходить сны о том далёком беззаботном времени, когда был он ещё не Семёном Алексеевичем и даже не Семёном, а простым вихрастым растрёпанным пацанёнком Сенькой.
Вот и сейчас он снова погрузился во сне в атмосферу счастливого безоблачного детства.
Жаркое летнее утро. Сенька продрал глаза. Под окошком слышен громкий разбойничий свист. Сенька знал – так свистит его лучший друг Васька, засунув в рот два пальца своей чёрной от загара пятерни. Сигнал выходить на важные мальчишечьи дела. Сенька высунулся в окно:
– Чего тебе?
– Айда, скупнёмся!
– Пошли.
Сенька выпрыгнул в окно и в одних трусах босиком поскакал с Васькой к речке. Скинув трусы, чтобы потом не выжимать, с разбегу бросились в воду. Вода обожгла друзей своей прохладой, и вместе с тем взбодрила. Речка – это бурная в истоках горная река Уруп, спустившаяся в сенькиной станице с гор в долину и превратившаяся в спокойную кубанскую реку с холодной горной водой. Сенька с Васькой жили в кубанской станице Удобная, протянувшейся по правому берегу Урупа аж на четыре с половиной километра. Это было крупное русское поселение на самом востоке Кубани, практически граница русского мира. Она и основана была в далёком 1858 году как казачий форпост в процессе кавказской войны 1817 – 1864 годов. Далее на восток шли Кавказские горы, где жили кабардинцы и балкарцы – таинственные племена, которыми бабушки пугали непослушных пацанов. Горцы никогда не спускались в станицу Удобную, и жители её тоже никогда не лезли в горы Кавказа. Там был другой мир, неведомый Сеньке.
А вот река Уруп притекала из Кабардино-Балкарии, в станице это была полноводная река шириной с полста метров и глубиной чуть более метра с довольно быстрым течением около полутора метров в секунду. Река текла по долине и бежала к городу Армавиру, где впадала в Кубань. Сенька с Васькой строгали из дерева кораблики и пускали их по реке, мечтая, как они поплывут в Армавир, и далее по Кубани в Азовское море. Армавир для Сеньки тоже был другим миром. Жители Удобной ездили туда редко. Только однажды отец Сеньки запряг лошадь и отвёз семейство в Армавир на ярмарку. Сеньке запомнились армавирские пряники, петушки на палочке, карусели и весёлые скоморохи.
А так сенькино детство проходило в станице. Станица была большой, более тысячи дворов. Но коренные жители, чьи семьи проживали там издавна, знали друг друга. Семью Семёна тоже знали. Его отец – Алексей Герасимович – работал в станице фельдшером, мать – Веру Ивановну – знали как мудрую и благочестивую женщину. У Сеньки был старший брат Николай и две сестрички – Екатерина и Мария. А в станице было полным-полно дальних родственников – двоюродных, троюродных и прочих юродных. Сенька знал не всех, а общался тем более не со всеми. В семье он был младшенький, брат был старше на восемнадцать лет, сёстры тоже, когда он гонял по пыльной дороге обод от колеса велосипеда, уже вздыхали от романов о красивой любви. Разве можно было доверить им мальчишечьи тайны? Другое дело – друзья – Пашка, Мишка, Васька, которым Сенька доверял сокровенные мечты и секреты. С ними и проводил беззаботное время с утра до вечера.
Как и у каждой пацанской ватаги, у друзей было излюбленное место, где можно было собраться в тайне от всех остальных. В месте, где был самый ближний спуск к реке от сенькиного дома, река протекала двумя рукавами, образуя между ними тихий необитаемый покрытый деревьями и кустами остров размером примерно 100 на 300 метров, попасть на него было можно, перейдя реку вброд.
Сенька и Васька взялись за руки, чтобы было удобней сопротивляться течению, подняли трусы над головой и пошли через реку к острову. На стремнине течение было сильнее, чем у берега, вода бурлила и пенилась, речка была пацанам по горло. Но друзья преодолели водную преграду и довольные вылезли на берег. Плавали они уже хорошо и воды не боялись.
На острове друзьями был построен шалаш. Сенька и Васька надели оставшиеся сухими трусы и разлеглись в шалаше на ветках и сухой траве. Было таинственно и романтично. Время обсуждать страшные тайны.
Васька сказал:
– Брат рассказывал, что на краю станицы в доме без окон живёт вурдалак. Он заманивает коров и коз из стада к себе во двор, выпивает из них кровь, а туши складывает в погреб. Говорят, он высосал кровь у двух девочек.
Сенька не отставал, он тоже знал страшные тайны:
– А на кладбище есть склеп с железной дверью, сам видел. Люди говорят, за дверью ступеньки уходят под землю, и там подземный ход прямо в церковь выходит.
– А бабушка рассказывала, в горах есть избушка, там живёт колдун. Он на людей порчу наводит. Кто туда попадёт, будет вокруг избушки кружить, пока не помрёт. Бабушка три дня кружила, пока молитву не прочитала.
– А в Отрадной врага поймали, хотел колодец отравить. Говорят, сам Деникин его оставил вредить людям.
– А мне бабушка говорила, что однажды в бригадира вселился бес, стал бригадир к колхозницам приставать, чтобы целовали его, похабно хватал их за разные места. Бабы батюшке пожаловались, батюшка беса выгнал, а бригадир с тех пор заикаться стал.
Так мирно и неспешно текла беседа о том, о чём рассказать можно только близкому другу.
Ребята двинулись домой, перешли речку, поравнялись с колхозным садом.
Васька сказал:
– Давай зайдём.
– Давай, проверим, как там.
Васька знал, как попасть в сад. Он раздвинул в укромном месте доски забора, и пацаны пролезли в сад, не забыв обжечься крапивой. Сады в станице были у всех. У Сеньки в саду были и яблоки, и груши, и абрикосы. Но в чужом-то саду плоды слаще. Друзья выбирали самые спелые и самые красивые и с наслаждением ели. Не заметили, как сзади подошёл дед Фёдор, сторож, с двустволкой:
– А что это за фрукты у нас в саду появились?
Пряча за щекой непроглоченный кусок груши, Васька сказал:
– Дяденька, мы ничего, мы только посмотреть зашли.
Дед Фёдор сказал:
– А тебя, малец, я знаю. Ты Лёшки-лекаря сын. Вот скажу бате, он тебя ремнём угостит.
Батя у Сеньки был добрый, он бы ремень брать не стал бы. А вот мама – это да, могла раскрасить задницу крапивой.
Друзья опустили головы и пробормотали:
– Дяденька, простите нас, мы больше не будем…
Дед Фёдор слушал эти слова, а по хитрющим пацаньим глазам видел – будут, непременно будут. Он и сам вырос в этой станице и сам лазил в этот же сад, правда раньше он был не колхозный, а барский.
– Ладно, чего уж, идите с богом. Да фруктов-то возьмите, малышей угостите, для людей не жалко.
Сенька с Васькой набрали яблок и груш, сколько в руки влезло, и дед Фёдор проводил их из сада через главный выход.
Дома Сеньку никто не спросил, где он был, что делал. Пришёл, и слава богу. Хозяйство большое, всем не до Сеньки. Сенька съел, что в семье осталось, помог матери – полил грядки, принёс охапку дров к печке во дворе, покормил ненасытную скотину и залез на полати для сладкого сна. Так прошёл ещё один день его жизни, счастливой свободной жизни станичного пацанёнка.
Поезд без остановки на скорости пролетел через какой-то полустанок, колёса на стрелках скрипели и стучали, вагон качало и бросало из стороны в сторону. За окном поднялся ветер, пошёл снег. В свете тусклых качающихся станционных фонарей была видна снежная круговерть. Семён проснулся, глянул в окно, потом на часы. Его станция ещё не скоро. Он перевернулся на другой бок и снова задремал. Под стук колёс пришёл новый сон.
Тёплый солнечный день 1 сентября 1930 года. Сенька с друзьями отправляется в школу. Мальчик с картинки с букетом георгинов в руках, выращенных мамой на огороде специально для этого случая.
Мальчика собирали в школу всей семьёй. Председатель колхоза Василий Николаевич за неделю до события даже выделил грузовую машину, чтобы в её кузове отвезти родителей первоклассников в Армавир за закупками. Родителей было много, в кузове закрепили лавочки. От семьи Семёна поехала мама. Семёну купили чёрный костюм, белую рубашку и чёрные лакированные ботинки. Конечно, лучше было бы всё это сначала примерить, но первоклассникам места в машине не нашлось. Мама померила портновским ленточным метром ширину сенькиных плеч и окружность сенькиного живота, заставила наступить правой ногой на газету и обвела химическим карандашом сенькину лапу. Было очень смешно, когда она вырезала её и забрала с собой в Армавир. Сенька рассказал Ваське, Васька маме, и васькина лапа тоже поехала в путешествие.
Надо сказать, с размерами мама угадала. Лакированные ботинки оказались впору, не хлюпают и не жмут. Пиджак тоже сел на плечи как по заказу. А вот брюки оказались немного великоваты, не вышел Сенька ростом и пузом. В поясе мама быстро их ушила, штанины тоже подвернула внутрь и пришила – будет на вырост. А вот ширинка была явно низко. Сенька подумал, что чтобы заполнить пустое пространство в брюках, надо долго и упорно что-то растить. К счастью, с пиджаком это было не видно. За плечами у Сеньки был новенький тёмно-зелёный ранец с блестящей застёжкой, ремни отрегулировали по фигуре. В ранец бережно были уложены новые пахнущие типографской краской и клеем учебники – букварь, арифметика, книга для чтения, тетрадки в клеточку и в косую линейку, альбом для рисования, два простых карандаша, набор цветных карандашей "Сакко и Ванцетти", линейка, ластик. А чтобы не перепутать одинаковые ранцы, Сенька нарисовал на своём самолётик.
Сенька был смелым парнем. Он не боялся залезать на самые высокие деревья, снимая с них забравшихся глупых котят, не боялся прыгать в речку с тарзанки, не боялся страшного лязга гусениц трактора, не боялся строгой продавщицы в магазине. А тут вдруг оробел. И очень обрадовался, когда узнал, что пойдёт в школу вместе с мамой. Он сам дал ей руку, и так и пришёл в школу.
Учительница Екатерина Лукьяновна встречала первоклассников на улице. Это была лучшая учительница в станице, её все знали, и Сенька тоже знал.
Мама сказала:
– Здравствуйте, это Семён.
Учительница приветливо улыбнулась и сказала:
– Здравствуй, Семён.
Семён проглотил застрявший в горле ком и робко сказал:
– Здрасьте.
Учительница сказала:
– Проходи, будем с тобой учиться, – и подвела Сеньку к группе таких же взъерошенных первоклашек с букетами в руках. Сенька многих из них знал, но его близких друзей здесь пока не было. К счастью, Васькина мама подвела за ручку своего сына. Сенька обрадовался, и когда Васька присоединился к ним, сказал:
– Здорово. Скажи, Васька, ты боишься?
Васька сказал:
– Здорово, боюсь.
–А чего ты боишься?
– Боюсь потеряться.
– Давай будем вместе, если потеряемся – вместе найдёмся.
На площадку перед школой высыпали все классы. Огромная толпа учеников построилась на линейку. Сеньке понравилось, он любил равнение строёв по линии, как в армии. Какие-то люди говорили речи, их никто не слушал, но все им хлопали. Сеньке мешал хлопать букет, но он изловчился. А вообще это было красиво. Потом заиграл марш настоящий духовой оркестр. Раньше Сенька слышал его только на праздниках в доме культуры и на похоронах. Подошли десятиклассники, взяли их за руки, провели вокруг линейки и повели в класс. Сенька сел за парту с Васькой, но учительница отсадила Ваську и посадила вместо него девочку с косичками. Девочка была аккуратная и прилежная. Она протянула Сеньке руку и сказала:
– Здравствуй, мальчик. Меня зовут Лена. Давай дружить. Как тебя зовут?
Сенька не знал, что ответить. "Сенька" вроде как-то несолидно, "Семён" – несерьёзно. Он пожал Лене руку и сказал:
– Сеня.
Девочка сказала:
– Какое красивое имя! И главное – редкое.
Лена была права. Среди знакомых пацанов не было Семёнов. В 1921 году, когда он родился, новорождённых уже регистрировали в подотделах ЗАГС местных органов власти – сельсоветов. Но осталась и старая традиция регистрировать их в церковных книгах. В станице была действующая православная церковь – Приход Успения Божьей Матери. Родители Семёна выросли и воспитывались до революции и были людьми верующими.
Несмотря на то, что советская власть пропагандировала атеизм и не рекомендовала сознательным труженикам посещать церковь, родители Семёна хоть и не посещали регулярно церковные службы, тем не менее мать иногда в церковь захаживала, чтобы поставить свечки иконе Божьей Матери за здравие живущих и за упокой усопших и заказать по ним панихиду. В этой церкви по старинному русскому обычаю и крестили Семёна. В ту пору было принято называть новорождённых, заглянув в святцы. По дате рождения событие примерно совпало с днём почитания Симеона Верхотурского, причисленного русской православной церковью к лику святых. Считалось, что Святой Симеон будет покровительствовать мальчику. Вот и окрестили мальчика Симеоном и внесли в церковные книги. А по советским законам это имя звучало как Семён. Знаменитые люди с именем Семён – Дежнёв, Челюскин, Будённый. Советская власть всё расставила по новым местам. Настоятеля местной церкви, батюшку, стали именовать попом. Верующих врагами не считали, но считали тёмными несознательными людьми, чьи мозги затуманены религиозной пропагандой. В святых покровителей пионеры и комсомольцы не верили, не верил в Святого Симеона и Сенька.
Екатерина Лукьяновна называла Сеньку исключительно Семёном. Глядя на неё, ребята в школе тоже стали называть его Семёном. И всё бы было ничего, но в станице был ещё один Семён, которого знала и любила вся станица. По случайному совпадению, так звали козла на колхозной конюшне. Он жил там в отдельном от лошадей стойле на полном колхозном обеспечении и своим козлиным запахом отпугивал ласок, нападавших без этого на лошадей. Всяк, кто приходил на конюшню, здоровался с козлом и угощал его морковкой, капустой или свежей травкой. Семен благодарно тряс бородой и жевал принесённый подарок. Вредные девчонки взялись дразнить Семёна. С ехидной мордой они заявляли: "Семён, потряси бородой", "Семён, покажи рога". Семён ловил их, дёргал за косы, прижимал к стенке и вообще злился, но что он мог сделать, если языки у девчонок были острые, как бритва? И конечно, винил во всём своё имя, которым назвали козла.
Учился Семён хорошо, активно занимался общественной работой, был октябрёнком, потом пионером и комсомольцем. Брат и сёстры стали взрослыми, у них была своя жизнь, и на Семёна свалился весь груз работ по хозяйству, ведь родители стали уже совсем старенькими. Однако он находил время, чтобы много читать. Увлекался изучением иностранного языка, немецкого, особенно под руководством прекрасной учительницы Таисии Даниловны. А ещё он с детства мечтал о путешествиях, мечтал посмотреть мир, но этим мечтам пока не суждено было сбыться. Он не знал об этом, но впереди была война, война, которая сломала многие жизни и многие планы. Так закончилось беззаботное детство и наступила суровая юность. Так закончился и этот сон под перестук вагонных колёс.
Поезд остановился на маленькой станции. Проводница открыла дверь тамбура, пассажиры сошли на перрон, а новые сели в вагон. С улицы повеяло морозным воздухом. Зато вместе с ним в вагон проникла свежесть с запахом снега и угля.
Семён поворочался на полке и решил спать дальше. И сразу к нему пришёл новый сон. О том, что с ним дальше было, но о чём рассказывать было никому нельзя. Шёл грозовой 1940-й год. Страна готовилась к большой войне. Готовились все. Готовился каждый комсомолец. Готовился и Семён. Готовил в первую очередь себя. К борьбе с врагом, к защите Родины. Он учился в десятом классе. Учился хорошо, активно занимался спортом, посещал занятия в Осоавиахиме. Семён выполнил нормы и добился присвоения оборонных значков – значок ГТО II ступени, значок "Готов к ПВХО", значки "Ворошиловский всадник" и "Ворошиловский стрелок". Не случайно товарищи избрали его секретарём бюро комсомольской организации школы.
А война между тем уже шла. Правда, её не называли войной, называли кампанией, но суть от этого не менялась. На советско-финской границе велись активные боевые действия, наши регулярные войска и пограничники противостояли натиску финских войск. Там шли бои, гибли люди. Финская кампания шла не совсем успешно. Наши регулярные войска с нашей классической тактикой масштабных сражений на открытом театре военных действий столкнулись с совершенно иной тактикой финских боевых формирований. И эта тактика в условиях северного бездорожья и сильных снежных заносов оказывалась более эффективной. Финские войска имели превосходную лыжную подготовку личного состава, чего не хватало нашим войскам. Это позволяло им вести боевые действия мобильными штурмовыми отрядами. Пользуясь преимуществом в мобильности, отряды финских лыжников блокировали дороги, забитые растянувшимися советскими колоннами, отрезали наступавшие группировки и затем неожиданными атаками со всех сторон изматывали их, стараясь уничтожить. Финская армия превосходила также наши войска в вопросах сапёрно-минной подготовки и в вопросах радиоразведки. Все планируемые наступательные действия наших войск становились известны финскому командованию за счёт успешного радиоперехвата, на этих направлениях осуществлялось комплексное минирование местности, преодолеть которое при недостаточном уровне сапёрной подготовки личного состава наших войск было проблематично. Руководство страны и военное командование принимало экстренные меры по устранению этих проблем. В течение всего января и начала февраля 1940 года шло усиление войск, пополнение материальных запасов, переформирование частей и соединений. Были созданы подразделения лыжников, разработаны способы преодоления заминированной местности, заграждений, способы борьбы с оборонительными сооружениями, проведено обучение личного состава.
Конечно, всего этого Семён не знал, но как гражданин советской страны, как комсомолец, он переживал за нашу армию и был готов внести посильный вклад в её победу.
В те годы комсомол ещё не был формальной политической организацией, а был действующим. Совместно с Осоавиахимом комсомол готовил молодых людей к защите Отечества. Для решения вновь возникших задач финской кампании мобилизации объявлено не было. Формирование добровольческих лыжных батальонов было поручено комсомолу. Из комсомольцев было сформировано свыше 100 лыжных батальонов штатной численностью по 750 человек. Общая численность личного состава была доведена до 760,5 тысяч человек.
Анатолий Николаевич, директор школы, пригласил Семёна в свой кабинет.
– Здравствуй, Семён! Проходи, присаживайся. Смотри, вот тут твои ребята из райкома комсомола бумагу прислали, прочитай и распишись.
Семён присел к столу, взял документ на официальном райкомовском бланке и стал читать. К тому времени станицу Удобную уже сделали райцентром, и в ней образовались свои райком партии и райком комсомола. В документе говорилось, что в соответствии с директивой Наркомата Обороны от 24 декабря 1924 года предписано сформировать лыжные батальоны из числа студентов, спортсменов, рабочих и служащих, молодёжи призывного возраста, имеющих лыжную подготовку, специальную подготовку в Осоавиахиме (пулемётчики, гранатомётчики, снайпера), преимущественно имеющих спортивные разряды по лыжам и стрельбе, а также оборонные значки. Набор был добровольным, только из числа комсомольцев. Возрастной и образовательный ценз был – не моложе 18 лет для окончивших среднюю школу и не моложе 19 лет для тех, кто среднюю школу не окончил. В заключение в документе выражалась уверенность, что комсомольцы проявят горячее желание стать участниками защиты Отечества на фронте борьбы с финской армией.
Семён дочитал документ до конца, поставил подпись за ознакомление и вернул бумагу директору.
Анатолий Николаевич взял бумагу и спросил:
– Что скажешь, секретарь? Видно, дело серьёзное, раз Наркомат Обороны за помощью обращается.
– Анатолий Николаевич, среди наших комсомольцев нашлось бы немало желающих, но по возрасту они не подходят. Так что единственный кандидат – это я. Отпустите?
– Отпущу, дело святое. Но ты всё же подумай ещё. Может, школу тебе закончить сначала? Думвю, войн на твой век ещё хватит.
Семён подумал. На следующий день он уже был в райкоме комсомола и подавал заявление о зачислении в добровольческий лыжный батальон.
На сборы Семёну дали три дня. Собираться особо было нечего. Передал комсомольские дела членам бюро, собрал в вещмешок скудные пожитки. Отец выбор одобрил, мужской поступок, во время Первой мировой войны он сам воевал на фронте, защищая царя и Отечество. Мама охала и ахала, но сына в дорогу собрала и благословила. В Северо-Кавказском округе свой добровольческий лыжный батальон не формировался ввиду отсутствия достаточного количества снега, и восемь человек удобненских добровольцев направили на формирование в далёкий северный Ярославль. Сбылась мечта Семёна попутешествовать и посмотреть мир. Двое суток с Армавира до Ярославля Главного с пересадкой в Ростове-на-Дону. Ярославль встретил добровольцев лёгким морозцем и слабой метелью. В обкоме комсомола приветливая девушка рассказала, как добраться до места формирования батальона в военные лагеря близ Тутаева. К вечеру добровольцы были на месте. А наутро началась подготовка и боевое слаживание.
Времени на раскачку не было, на фронте добровольческие лыжные батальоны ждали. Программа подготовки была рассчитана на 15 дней, за это время из комсомольцев-добровольцев должны были получиться настоящие фронтовые бойцы. Спали в казарме, но все занятия были в полях. Краткий курс общевоенной подготовки с упором на снайперскую, а основное время уделялось лыжной подготовке. Семён на лыжах бегать умел, но оказалось, что это ещё не всё. Удивило его занятие по строевой подготовке с лыжами. Оказывается, бойцы в строю должны выполнять команды, при этом совершая установленные манипуляции с лыжами. Хоть это и забавно, но Семён понял, что это тоже нужно. Не годится, когда каждый в строю делает с лыжами что придётся. На технику одношажного и двухшажного хода отводился всего один день. Ещё день на технику подъёмов, спусков и торможений. Всё остальное время – это тренировка на выносливость – марш-бросок с полной выкладкой на постепенно увеличивающиеся дистанции. Лыжную подготовку добровольцам преподавала Екатерина Дмитриевна, молодая девушка лет двадцати, мастер спорта по лыжам и лыжному слалому. Заканчивалась лыжная подготовка зачётным марш-броском с полной выкладкой на 20 км, норматив на отлично – 1 час 47 минут. Семён успешно сдал все зачёты по курсу подготовки и был зачислен в добровольческий 13-й лыжный батальон.

