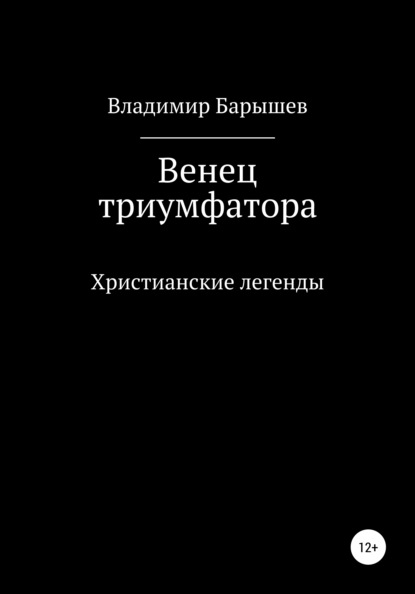Скажи мне путь

- -
- 100%
- +
– Ну наконец-то, барышня, а я уже сам хотел к вам идти. Написали очерк? Прошу, прошу вас садитесь.
Люба присела на краешек жёсткого скрипучего стула и строго, как на Шурку, посмотрела на журналиста.
– Писать очерк – это ваша работа, Сергей Фёдорович, а я… придумала, о чём можно рассказать горожанам.
Глаза Олейникова подозрительно блестели, и Любе показалось, что в воздухе витает странный запах… Заметив початую бутылку вина на окне, она поняла его истоки, так же как и причину блеска в глазах журналиста.
– Давайте, давайте, – потёр руки Олейников, – слушаю вас.
Рассказ о горе-дезертире, которого должны судить военным трибуналом, получился эмоциональным. Люба увлеклась и забыла и про запах, доносившийся от Олейникова, и про его длинноватый нос. Сейчас он был единомышленником.
– Солдатик такой… молодой, неопытный… Напишите что-нибудь в его защиту. Может, это… повлияет на суд… Его зовут Красильников Валентин.
Журналист откашлялся.
– Конечно, вы правы, поднимем общественность… Хм-м-м… Царь не сможет не прислушаться к мнению народа. Да и вообще, Любовь Матвеевна, – он крупно сглотнул, – на таких, как этот юноша, вскоре будут смотреть, как на героев, идущих против войны. Больше будут уважать тех, кто… продолжал заниматься мирным делом… наукой, например, или людей лечил, как вы…
– Или как вы, занимался журналистикой? – насмешливо спросила Люба, вставая.
– Или как я, вы правы, – с вызовом ответил Олейников, стреляя глазами на бутылку, которая при свете уличного фонаря загадочно светилась тёмно-изумрудным светом.
– Так вы напишите про… Валентина?
– Обязательно напишу, не волнуйтесь, я что-нибудь придумаю.
На улице, где-то вдалеке, послышался какой-то шум.
– Что это? – Люба обернулась к окну.
– Что? – журналист смотрел на неё недоумевающе, но потом прислушался. – А, это… еврейский погром. Рынок громят. Говорят, евреи нарочно договорились товар прятать и цены поднимать. Вот в городе очереди-то и растут…
– И вы в это верите? – нахмурилась Люба.
Олейников встал из-за стола и медленно приблизился к окну, делая вид, что не обращает внимания на початую бутылку.
– Я не верю, барышня, поэтому и не участвую в погромах, как видите… Кстати, вы не боитесь идти одна? – обернулся он. – На улице сейчас всё может случиться, да и темнеет уже. Может, вас проводить?
– Не боюсь, прощайте, Сергей Фёдорович.
Люба решительно вышла из кабинета, но, открывая дверь на улицу, замешкалась. Всё-таки Олейников был прав – в Петрограде она насмотрелась на подобных громил. Таким что лавку грабить, что человека – было всё едино. И хоть у неё денег не было, могли содрать пальто, а то ещё и… снасильничать.
Как нарочно, именно в той стороне, где находился госпиталь, послышался звон разбитого стекла и яростные, грубые выкрики. Люба замерла в раздумье, выискивая глазами пролётки, но тех не было видно, да и вообще – город словно вымер.
Она медленно пошла по тёмной улочке. В душе, словно набат, билось чувство тревоги… Листья каштанов и клёнов, подгоняемые ветром, бежали вслед, и казалось, что их вместе с ней засасывает в какую-то страшную воронку…
– Любовь Матвеевна! – вдруг услышала она окрик и очнулась, вглядываясь в темноту.
Из соседнего переулка показался всадник, галопом мчавшийся прямо к ней.
– Егор Семёнович? – растерянно пролепетала Люба, – вы как здесь?
Он ловко спрыгнул с коня, как здоровый, но его больная рука была подвязана.
– Матвей Ильич пришёл в госпиталь и стал вас искать. А я услышал, что в городе начались беспорядки и поехал за вами. Он сказал, куда вы пошли.
Похоже было на то, что молодой есаул только и ждал случая прокатиться верхом.
– Спасибо, – Люба уже забыла про страхи, ей хотелось глупо улыбаться от счастья, но она сделала серьёзное лицо, – там что-то громят?
– Да, я предлагаю пойти в другую сторону. Давайте по набережной обойдём, а там где-нибудь свернём к госпиталю.
Согласно кивнув, она всё-таки не удержалась от счастливой улыбки.
Они вышли на набережную Днепра. Уже совсем стемнело, но в воде отражалась полная луна, и всё было освещено таинственным голубым светом. Чужой и враждебный город вмиг преобразился в мирный и поэтический.
– Как красиво, – восхищённо прошептала Люба, глядя на воду, – прямо как в белые ночи в Петербурге…
– Скучаете по столице, Любовь Матвеевна?
– Скучаю, – вздохнула она, – но того Петербурга больше нет, так же как нет прежней меня… Расскажите лучше о себе, Егор Семёнович. Вы же в Петрограде училище закончили? И потом сразу на войну?
Он помолчал немного.
– Да, Николаевское училище закончил. Хотел домой съездить, в родную станицу, жениться как все, – его слова заставили сердце Любы замереть, – а тут… война, мобилизация. Может, и к лучшему, что не женился, а то думал бы всё время, не забыла ли меня моя жёнка-жалмерка? Казачки бабы бедовые, не удержат рукавицы ежовые! А, что скажете, Любовь Матвеевна, прав я или нет?
Люба отвернулась. Ей показалось, что Егор ёрничает, скрывая внутреннюю боль. После его рассказа о погибшей девушке она не верила, что он так легко ко всему относится.
– Вам лучше знать, а по мне – и правы, и не правы, – сухо ответила она, – если жениться лишь бы… детей наплодить, то, наверное, лучше дождаться окончания войны. А если найти ту… единственную, то она может и всю жизнь ждать.
– Как же не ошибиться? – всё ещё весело, с лёгким удивлением спросил Егор. Казалось, он не хотел сдаваться, но Люба уже видела мелькнувший интерес в его глазах.
– Сердце подскажет, – нарочито спокойно сказала она, едва владея голосом от волнения, – может так же, как человек различает голос Бога в себе.
– Ого! Э, как вы загнули…
– Прошу вас, не смейтесь.
– Я и не думал.
Егор, приостановившись, обернулся к ней. Лицо его из мальчишеского вмиг преобразилось, и рядом с ней сейчас стоял взрослый, познавший и настоящую жизнь, и настоящую смерть, мужчина. Он ждал объяснений, и Люба продолжила, всё больше и больше волнуясь:
– Мне кажется, голос Божий в душе нельзя ни с чем спутать. Это и не совесть, ни мысли, ни твои рассуждения… Он другой. Ясный и… добрый. Он несёт в сердце свет. Так же, наверное, и с настоящим суженым… ну, или с суженой, – она горячилась, но уже не могла остановиться, – как узнаешь его… или её, так уже не сомневаешься, что это на всю жизнь. И чем хуже вокруг становится мир, тем больше ценишь любимого человека. У тебя в сердце словно загорается огонёк, с которым тепло всегда, и никто-никто не может его потушить.
– Вы имеете в виду любовь с первого взгляда? – снова усмехнулся Егор, но взгляд его оставался задумчивым.
– Вовсе нет, не обязательно. Конечно, нужно узнать узнать друг друга. Но иногда и с первого взгляда бывает, – мучительно краснея, закончила Люба и поспешно отвернулась к воде.
– А вы ведь не замужем, Любовь Матвеевна?
– Я обручена, – мужественно бухнула она.
Он помолчал.
– Чего же ещё не обвенчались?
– Миша ушёл поручиком в первые же дни войны и пропал. Какое-то время мы переписывались, а уже почти год от него ни слуху, ни духу, – вздохнула она, – что с ним? Может, погиб или без памяти где-нибудь лежит? А может, у него вообще другая семья?
– Объявится ваш жених, если живой, – протянул Егор, похлопывая коня по шее, – не переживайте. Не может он бросить такую девушку. Вы ведь ждёте его?
Люба решила идти до конца.
– Жду, но с ужасом думаю, что должна выйти замуж за чужого мне человека. Вот так вот… Мы очень мало узнали друг друга… Всё, что я вам наговорила про суженого, я только сейчас поняла. А тогда, в семнадцать лет, дала обещание, почти не раздумывая.
Егор внимательно смотрел на неё и уже не улыбался.
– Может, нужно ему просто сказать об этом?
– Да, вы правы, лучше сказать, чем жить без любви. Боюсь, что своими словами я ещё больше испортила ваше мнение о женском поле.
– Не испортили, – ответил Егор с лёгкой усмешкой, – скорее, озаботили…
Егор здоровой рукой вёл под уздцы старенькую лошадь. Его куртка, накинутая на одно плечо из-за повязки, при налетевшем ветре широко распахнулась. Люба забеспокоилась.
– Вы не замёрзли, Егор Семёнович?
– Нет, – в полутьме его зубы блеснули от лихой улыбки, – после двух лет войны такой холод уже не кажется холодом… Гораздо тяжелее привыкнуть к потере друзей… И любимого коня, – он вздохнул. – Кстати, Ворон мне до сих пор снится. Матвей Ильич спас мне руку, а вы… мою душу. Ваш рассказ про Небесный табун и Костлявую лошадь здорово отрезвил.
– Значит, вам есть ради кого скакать по земным дорогам?
Егор пожал плечами и подмигнул по-мальчишески.
– Пока не уверен, а там посмотрим. Как говорится, Бог не без милости, а казак не без счастья. Так чем мне вас отблагодарить, Любовь Матвеевна?
– А позанимайтесь с моим Шуркой верховой ездой, – осенило её, – он мне весь мозг проел, что хочет быть казаком.
Егор улыбнулся.
– С удовольствием поучу… Пусть приходит. Сколько ему лет?
– Десять, но он всем говорит, что скоро одиннадцать, – тоже с улыбкой ответила Люба, – помню, когда Шурка был маленький, он всё мечтал покататься на лошадке. Тогда я сажала его на колени и читала ему стишок Саши Чёрного:
Я конь, а колено – седельце.
Мой всадник всех всадников слаще…
Двухлетнее тёплое тельце
Играет как белочка в чаще.
Склоняюсь с застенчивой лаской
К остриженной круглой головке:
Ликуют серьёзные глазки,
И сдвинуты пухлые бровки…
Подступивший к горлу ком заставил её замолчать. Почему она вдруг вспомнила то время? Почему рассказывает Егору то, что не говорила даже отцу? Люба мучительно застеснялась собственной откровенности, но есаул улыбнулся ласково-понимающе.
– По-моему, вы очень хорошая сестра. Саше повезло.
– Если можно назвать везением то, что наша мама умерла, – со вздохом возразила Люба.
Она прислушалась – собаки ещё в центре города брехали, однако разбойничьи крики уже затихли. Наверное, всё разграбили и разбежались по домам.
– Завернём здесь, я знаю эту улочку. Тут недалеко до госпиталя.
Расставаться не хотелось, но она уже и так опоздала на дежурство. Последние метры до госпиталя они прошли в полной тишине, нарушаемой лишь цоканьем копыт покорно идущей сзади кобылки.
Во дворе госпиталя им встретился пожилой солдатик, оставшийся после ранения работать конюхом. Он взял кобылку за уздечку и повёл к конюшне. Оттуда раздалось тихое ржание.
– А это что за конь? – спросил есаул, поворачиваясь.
– Энто старичок наш уж много лет служит при госпитале, – улыбнулся конюх, – дюже любопытный, но смирный. Желаете прокатиться, ваш благородь?
– Желаю, – вздохнул казак, – но в следующий раз. Если он смирный, то как раз подойдёт для вашего брата, Любовь Матвеевна. Пусть приходит, на днях и начнём учиться.
Из-за угла, как поджидавший грабитель, налетел холодный ветер и снова распахнул куртку Егора.
– Егор Семёнович, – придавая голосу строгости, сказала Люба, – я прошу вас не стоять на таком ветру, да ещё и без шинели. Пойдёмте внутрь.
– С вами с удовольствием, – ухмыльнулся есаул, придерживая перед ней дверь.
Когда они вошли в опустевший холл госпиталя, от близости казака Любе стало жарко. Глаза у него были синие-синие… Так бы и глядела…
– Любовь Матвеевна, вы собираетесь сегодня работать? – вдруг сверху раздался металлический голос Маривчук.
– Да, простите…
Люба нахмурилась и, кивнув ему на прощание, быстро побежала по лестнице. Однако наверху она всё-таки не удержалась и глянула вниз, куда простучали каблучки заведующей. Конечно же, Дина взяла под руку есаула, как простая санитарка, и повела его в палату.
– Нельзя же так… А если вы простудитесь? Мы с таким трудом выходили вас…
Что он ей отвечал, Люба не слышала, закрыв за собой дверь в ординаторскую. Она быстро надела халат, потом неловко, поспешно отпила невкусной кипячёной воды, облив и подбородок, и грудь, и уже ринулась на вечерний обход, как вдруг остановилась и задумалась: зачем она так разоткровенничалась? На что она надеется?
Люба медленно подошла к тёмному окну, в котором отразился её силуэт, с тонкими белыми руками, такой же белой шеей и длинной девичьей косой, – ничего особенного… Конечно, есаулу больше понравится фигуристая Маривчук. Но чем больше Люба убеждала себя в этом, тем больше ей хотелось плакать, потому что она уже влюбилась.
Глава 7
Все последующие дни стали для Любы истинным мучением. Ей хотелось видеть Егора, слышать его голос, дышать рядом с ним. Всё вокруг без него лишилось смысла…
Егор, Егор, где же ты был раньше, ведь ты учился в том же городе, что и я? Мы могли бы вместе гулять по Екатерининскому каналу, слушать соловьёв на Заячьем острове, вместе кормить соек в Летнем саду… Почему я встретила Мишу, а не тебя, ведь ты не был женат? – с тоской думала Люба.
К Егору в палату она старалась не заходить, но она и так его всё время видела и слышала… в отличие от Миши, которого почти забыла…
Как же можно было так легкомысленно дать обещание едва понравившемуся человеку? – корила она себя. – Но жалеть об этом было поздно. Может, Мишину волю к жизни поддерживает мысль, что его ждёт любимая девушка. Обмануть такую надежду нельзя.
Ольга Александровна вернулась из ставки со своим любимым Куликовским и со сдержанным ликованием шепнула Любе, что царь обещал дать развод, когда приедет в Киев. Люба за неё радовалась, но не от всего сердца, словно Ольга Александровна была виновата в том, что подавала пример истинного благородства, от которого нельзя отмахнуться, как бы ни хотелось. А тут ещё Николай Александрович Куликовский – “Кукушкин”, как его ласково называла Ольга Александровна, – признал в есауле своего однокашника – они с небольшой разницей в годах закончили военное Николаевское училище в Петербурге, – и приходил его навещать в госпиталь. Тут же рядом с ними оказывалась и княгиня, и вместе они составляли кружок почти счастливых людей. Люба смотрела на них издалека и мучилась от ревности…
– Люба, вы так и не получали писем от жениха? – как-то спросила княгиня.
– Нет, Ольга Александровна, – пряча взгляд, ответила Люба. – А вы отправили запрос?
– Да, конечно, – с жаром подтвердила та, – не волнуйтесь, если он жив, то обязательно откликнется.
Ольге Александровне, окрылённой надеждой на венчание с любимым, хотелось, чтобы все вокруг были так же счастливы, как она. Ощущая напряжённое состояние Любы, подруга пыталась её подбодрить, но неправильно понимала причину этого напряжения.
Ночью Любу стали мучить кошмары. К утру она почти ничего не помнила, но однажды ей приснилось то, что случилось на самом деле много лет назад.
Было похоже на позднюю осень. Вечер тёмный, но снега нет… Люба бежала по узкому переулку близ Сенной и высматривала фигурку брата. Наконец она его увидела. Кто-то дал брату велосипед, и тот нёсся прямо на стаю голубей. Буря крыл поднялась в небо, лишь один голубь не успел… Колесо велосипеда проехало прямо по серо-белому крылу.
– Шурка! Шурка! – закричала Люба, – ты что!..
От крика она проснулась. Сердце билось, будто она бежала по-настоящему.
Люба смотрела в темноту большого окна и вспоминала. Да, он тогда задавил несчастную птицу. Почему-то её страшно поразил тот случай.
Когда большое и грязное колесо пригвоздило голубя к земле, тот даже не оглянулся, быстро засеменив трёхпалыми лапками прочь. Подбежав ближе, Люба поймала бедолагу. Тот смиренно сидел в ладошках и лишь вертел маленькой головкой, поглядывая на неё своими глазками-бусинками, будто ничего не произошло. Но Люба видела, что он обречён – повреждённое крыло напоминало сломанный веер, с бруснично-кровавыми капельками у основания. Кровь окрасила её пальцы…
– Он теперь умрёт, бедный, – заплакала она, – умрёт… Его заклюют вороны.
Кротость маленького создания, его спокойное принятие своей участи, его незлобивость и доверие Любиным тёплым рукам вызвали у неё безудержные рыдания. Шурка испугался её реакции и сам чуть не плакал, стоя рядом. После этого случая он долго не садился на велосипед.
Тогда Люба впервые поняла, что быть кротким, как голубь – значит принять свою судьбу и не роптать. Почему же ей приснился этот сон? Она ропщет на судьбу? Пожалуй, да…
Странно, но после этого сна ей стало легче. Она внутренне смирилась, что земная жизнь – это крест, который каждый должен нести без ропота, лишь бы Бог не оставил… Может, в монастырь уйти, как тётя? – мелькала мысль. – А куда я Сашку дену? Без меня он совсем пропадёт…
Шурка выглядел по-настоящему счастливым, когда приходил на больничную конюшню учиться ездить верхом. Есаул сдержал обещание и терпеливо обучал мальчишку премудростям верховой езды. Люба в такие минуты прилипала к окну и следила, как брат гарцует на послушной кобылке. Но вскоре Люба стала прятаться за занавеской – слишком уж часто Егор поглядывал в окно.
После занятия Люба всегда старалась покормить брата в больничной столовой.
– Представляешь, лошадью можно управлять даже мыслью! Вот Егор Семёнович едва удилом поведёт, и та уже поворачивает, представляешь? А может и вообще без рук ехать. Егор Семёнович самый лучший казак, – кусая по очереди то солёный огурец, то горбушку возбуждённо заявил он за обедом, – он мне сказал, что я так тоже могу научиться, но для этого нужно жить рядом с лошадью…
Он замолк и вопросительно посмотрел на Любу.
– Ты хочешь жить на конюшне? Я против. А ещё что ты узнал?
Брат обиженно засопел, но желание поделиться победило.
– Ещё казаки ездят не так, как кавалеристы. Они не подпрыгивают и ноги держат вытянутыми. А если подпрыгивать, то у лошади набивается холка. Вообще, дядя Егор сказал, что нужно научиться справляться с лошадью без мундштука. Казаки не пользуются мундштуком, только удилами и плетью. И знаешь, что они умеют?
– Что? – еле сдерживая улыбку, спросила Люба.
– Представляешь, если в бою кого-нибудь ранят и лошадь убьют, то казак может на скаку схватить товарища и увезти с поля боя!
– Здорово.
– Кстати, дядя Егор про тебя спрашивал.
– Тише ты, – нахмурилась она, оглянувшись, не слышал ли кто…
Но в больнице обед уже закончился, и лишь несколько санитарок собирали посуду с длинных столов.
– И что же он спрашивал? – не вытерпела она, покусывая губы.
– Ну-у… спросил, какая ты?
– Что значит, какая?
– Ну-у… строгая или добрая?
– Хватит нукать. А ты что?
– Я сказал, что разная… Но больше добрая, просто притворяешься злой.
Люба потрепала брата по голове.
– Мы на завтра договорились.
– Что? – рассеянно спросила Люба, – о чём договорились?
– Заниматься… О чём же ещё? – сытно зевнув, ответил брат, поднимаясь из-за стола.
– Хочешь полежать в ординаторской?
– Вот ещё, – забурчал Шурка, – я тебе что, маленький, спать днём?
– Не ворчи, – засмеялась Люба, – взрослый мой…
Брат убежал, а Люба ещё посидела за столом, допивая остывший чай. Она не понимала Егора – кто ему нравится? Люба или Маривчук? Та в открытую ухаживала за ним, а он её не отталкивал, лишь отшучивался… Впрочем, Люба не знала, как далеко зашли их отношения.
Общаясь с Егором на улице, Люба замечала, что Маривчук следит за ней из окна своего кабинета, а потом, при встрече, пронзает почти огненным взглядом. Ревность в сочетании с красотой Дины делала её похожей на ведьму. А что если… они, действительно, станут соперницами?
На следующее утро весь госпиталь гудел. Свершилось – в Киев приехал царь Николай.
– Ольга Александровна сказала, что он заедет после обеда, – кинул ей отец в ординаторской, безуспешно пытаясь попасть в рукав белого халата. – Я пригласил прессу и нашего знакомого… этого… Олейникова. Проследи, чтобы его охрана пропустила.
Люба кивнула, чуть нахмурившись. Она не верила, что будет толк от его писанины, но отец сказал, что после её заметки про дезертира стали поступать пожертвования.
Санитарки и врачи бегали по длинным коридорам как ошпаренные. Раненые дисциплинированно лежали на своих кроватях, однако находились ворчуны, неспособные потерпеть без курева ни одного часа.
Ровно в четыре часа к госпиталю подъехало авто. Люба выглянула в окно ординаторской. Какой он – царь? Боже, неужели этот худой и бледный, с измученным, уставшим лицом, и есть наш император?
Люба бросилась ближе к палате дезертира, предполагая, что туда Николай придёт обязательно… В коридоре врачи и санитары выстроились в виде почётного караула, а царь медленно, в сопровождении Ольги Александровны и Любиного отца, обходил палату за палатой. За спинами медперсонала стоял и Олейников, выделяясь из толпы чёрным костюмом и тяжёлым фотоаппаратом на шее, оттягивавшим белый, накрахмаленный воротник. Его тёмные, маслянистые волосы были зачёсаны назад, и он то и дело изящным и гордым движением откидывал чёлку со лба, раздувая при этом тонкие крылья длинного носа. Рядом с ним находилась Дина Борисовна, одетая хотя и как все, в белый халат, однако в её позе – руки в карманах – и в еле заметной усмешке сквозила демонстративная отстранённость от всего происходящего.
Наконец, процессия приблизилась к палате со злосчастным узником. Казаки-охранники вытянулись перед царём, но тот, лишь кивнув им, подошёл к лежавшему в кровати поручику.
Даже издалека было заметно, что тот окаменел от страха. Николай, видно, уже всё знал и понимал его состояние. Подойдя ближе, он положил руку поручику на плечо и, чуть наклонившись, спросил, почему тот дезертировал.
– Ваше величество… – молодой человек еле владел трясущимися губами, – у меня кончились патроны и я… испугался. Вот и побежал назад…
В палате чёрной горошиной билась об стекло проснувшаяся муха. Все, затаив дыхание, ждали.
– Поручик, вот мой приговор – вы свободны, – просто сказал Николай.
Бедный юноша вдруг сполз с кровати, бросился на колени и обхватил ноги царя. Он плакал, как малое дитя, а за ним плакали и все остальные, даже те петроградские сёстры, которые не любили Ольгу Александровну. Как же преданно смотрели на царя раненые… На миг почудилось, что все снова едины – русский царь и русский народ…
Люба перевела торжествующий взгляд на Олейникова, стоявшего за спинами врачей, у входа в палату, но того будто не заинтересовал этот случай. Сергей Фёдорович наклонился к Дине, и до Любиных ушей долетело:
– Лучше бы он в Петроград поехал. Там во многих воинских частях уже не слушаются командования. Армия напоминает пороховую бочку.
– Да, я знаю, – кивнула Маривчук, – чего удивляться, если нет ни хлеба, ни электричества, ни порядка.
Олейников с Диной вышли вслед за всеми из палаты, разговаривая уже почти не таясь. Люба шла сзади, как заворожённая.
– Говорят, на фронте участились случаи отказов идти в наступление. Попомните моё слово, – журналист неприятно усмехнулся, – ему (он кивнул в сторону царя) недолго осталось.
– Я слышала, в Нижегородской области женщины-солдатки бунтуют.
– Если среди них нашлась хоть одна, похожая на вас, Дина Борисовна, то я не удивлён, – сладко улыбнулся Олейников, на ходу целуя руку Маривчук.
Заведующая неожиданно обернулась и резко остановилась, так что Люба чуть не наткнулась на неё.
– Подслушиваете, Тихомирова? Может, донесёте на нас? – отчеканила она.
Люба вспыхнула.
– Что же я должна донести? Как вы всех ненавидите?
– Ну что вы, Любовь Матвеевна, – приторно сладко заулыбался Олейников, пытаясь взять её руку, но Люба отступила на шаг назад, – мы никого не ненавидим. Наше самое горячее желание, чтобы наступил мир. Правда, Дина Борисовна?
Та не ответила, всё ещё сверля взглядом Любу. Розовые пятна покрыли её щёки. Но это было не смущение, не страх, а ненависть, неприкрытая ненависть и вовсе не из-за политики, а из-за негласного женского соперничества. Олейников этого не знал, но Люба и Маривчук понимали друг друга без слов, как понимают либо близкие подруги, либо заклятые враги.
Глава 8
О чём же подумать перед смертью? Молитва почему-то не шла, а в душе Михаила жила странная уверенность, что Бог и так помилует… Но о чём же подумать, чтобы перед расстрелом унять предательскую дрожь?
В голову полез Достоевский со своим сумасшедшим Мышкиным… Нет, Михаил не желал помилования, как герой-идиот. В этом была сила капитана Столетова. Живя (если только можно было назвать это жизнью) в лагере для военнопленных, Михаил сделал осознанный выбор: чем быть рабом в плену, голодая и кормя собой мириады насекомых, становясь больше похожим на зверя, чем на человека, лучше не жить вообще.
Поначалу его ещё согревала надежда, что когда-нибудь этот кошмар закончится и он вернётся в Россию. Там, далеко, в Петербурге, то есть в Петрограде, осталась его невеста Люба, мать, друзья по училищу… Но вскоре Михаил понял, что ошибся – в плену выжить было почти невозможно. Австрияки ненавидели русских, и нужно было выбирать – умереть либо быстро, либо мучительно долго. У многих от голода и болезней открывались такие болезни, терпеть которые не было сил. У самого Михаила язык представлял какую-то вспухшую массу, весь потрескался и по утрам кровоточил. Несмотря на болезни, им приходилось рыть канавы на границах и внутри лагерей, проводить дороги и, заменяя лошадей, доставлять на себе брёвна, доски, камень, железо…