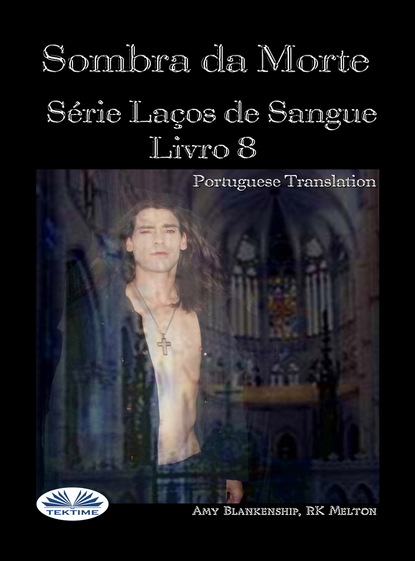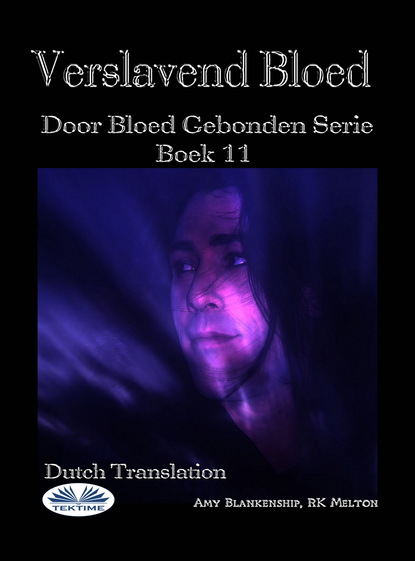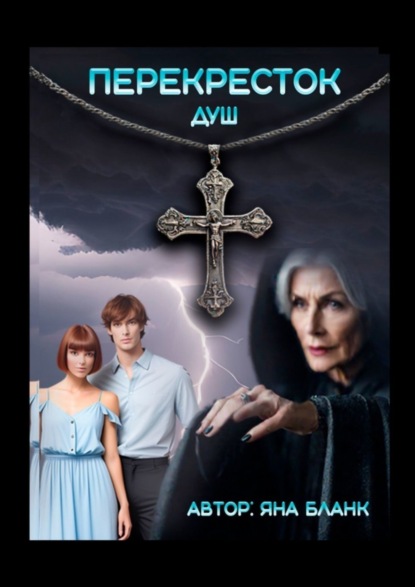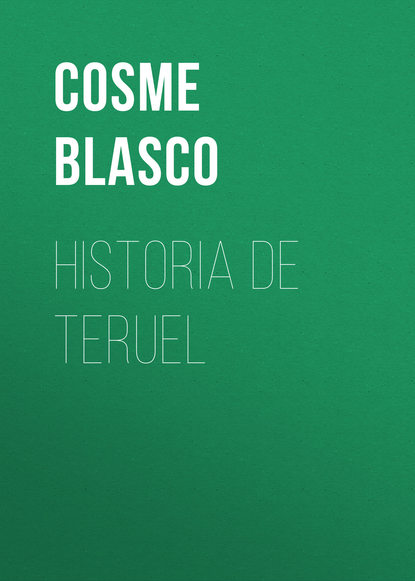Скажи мне путь

- -
- 100%
- +
Люба не участвовала в этих приготовлениях. Ей хватало предпраздничных хлопот и дома. Правда, если бы не соседка, Надежда Григорьевна, то не то что мяса, но и хлеба она бы не достала. Нужно было выстаивать длинные очереди, а ни сил, ни времени на это не было. А тут ещё постоянные ссоры с Шуркой испортили ей и так грустное настроение после отъезда Егора. Как обмолвилась Ольга Александровна, в станицу нужно было отвезти все документы окружному атаману, да и денежное довольствие получить. Вот и уехал…
У Ольги Александровны, вопреки всем невзгодам, настроение было самое радужное – царственный брат всё-таки прислал ей разрешение на развод.
– Мы собираемся обвенчаться после Рождества, – сияя глазами, тихо объявила ей Великая княгиня, когда они остались одни в ординаторской, – будете моей свидетельницей, Любочка?
– Почту за честь, – как можно веселее постаралась ответить Люба, – а со стороны Николая Александровича кто будет свидетелем?
– Есаул Егор Семёнович обещал.
У Любы ёкнуло сердце.
– Значит, он вернётся?
– Да, наш есаул говорит, в станице сидеть не хочет, а здесь ему мой “Кукушкин” обещал место при штабе в Бердичеве. Воевать-то он уже не сможет, сами знаете – рука плохо слушается после ранения.
Чтобы не выдать своё волнение, Любе пришлось отвернуться. Однако, на первый взгляд, радостная новость о возвращении Егора в Киев, заставила её призадуматься. Ради кого или чего всё-таки Егор вернётся сюда? Раненые солдатики поговаривали про его роман с Маривчук…
А тут ещё и брат заныл, что Егор Семёнович перестал приходить на конюшню.
– Люба, скажи ему, пока он не уехал, пусть ещё поучит меня, – теребил он её, – или давай я сам покатаюсь. Меня дядька Степан не выгонит.
– Нет, Саша, одного я тебя не пущу, ты ещё маленький…
– Тогда я из дома убегу, – вспыхнул он, выскакивая из-за стола в больничной столовой, – на фронт! Увидишь, какой я маленький!
Когда Егор уехал, Люба за работой да предпразднственными хлопотами забыла про Шуркину угрозу, пока однажды вечером, вернувшись домой, она не застала ни отца, ни брата.
– Надежда Григорьевна, – постучалась она к соседке, – а вы не знаете, где мои?
– Таки знаю, Любочка, – выплыла из своей комнаты та, – ой, что тут было, что было! Матвей Львович только сел за супчик… я сегодня такой бульончик сварила… с потрошками, с галушками, – она закатила было глаза, но осеклась, взглянув на напряжённую Любу, – да… сел обедать, а туточки письмо лежит…
– Какое письмо? – просипела Люба – от волнения у неё сел голос.
– Так это… на тетрадке школьной… Шурочка ваш написал, мол, убегаю на фронт. Да вы сами прочтите! Здесь где-то лежит его записочка.
Люба поискала глазами письмо и увидела смятый листок на краю обеденного стола. Детским почерком, с ошибками, брат сообщил, что “больше не может так скучно жить, ездить верхом он уже умеет, поэтому искать его не нужно”.
– На вокзал, срочно, – прошептала Люба и бросилась одеваться.
Но стоило ей надеть сапоги, как в дверях заскрежетал ключ.
Первое, что увидела Люба в полутёмном коридоре – упрямые и злые глаза брата, который неохотно переступил порог. Следом зашёл отец и сел прямо в коридоре на шаткий табурет.
– Принимай беглеца, Люба, – устало произнёс он, – хорошо, что успел до отправления поезда. Нашего вояку еле в сене нашли в вагоне для фуража. Хорошо, казачки помогли отыскать.
– Им не впервой, видимо, – пробормотала она, осматривая брата.
У того ноги были мокрыми до колен.
– Шу… Сашенька, а почему ты такой мокрый?
– Возле вокзала пруд замёрзший. Я думал, пройду, но провалился, – угрюмой ответил тот.
– Давай скорее раздевайся, а я тебе горячую воду приготовлю, ноги попаришь.
– Ещё чего…
– Не возражай! – повысил голос отец, – помрёшь от воспаления лёгких, тогда уж точно на фронт не попадёшь.
Но горячая вода не помогла – ночью у Шурки поднялась температура.
Так и прошло Рождество – возле кровати мечущегося от жара Сашки. С работы отец её отпустил, и на венчание к Ольге Александровне Люба не попала, да и Егор, оказывается, не приехал…
Глядя на милое, родное и в болезни такое неупрямое, детское личико Сашеньки, она глотала и вытирала слёзы, едва успевая менять платки.
В квартире было тихо-тихо, лишь за стенкой раздавалось громкое сопение Надежды Григорьевны, спящей сладким сном. Саша о чём-то шептал в бреду, порывался встать, но Люба ласками и уговорами укладывала его обратно. Руки привычно определяли температуру, меняли повязки, гладили пылающий лобик, а слёзы всё текли и текли…
– Господи, как мне плохо… Ты видишь, я не умею, не справляюсь… Господи, научи, помоги! Матерь Божия, не забирай у меня Шурочку, прошу Тебя! – уже почти в голос разрыдалась она и рухнула рядом с кроватью на колени, обращаясь к иконе Божьей Матери.
Поплакав вволю, ей стало легче. Люба снова села на кровать к Шуре и задумалась. После слёз отчаяния в её душе поселилась уверенность, что и жизнь Саши, и её в руках Божиих. Но она малодушно боялась, что крест, уготованный ей Богом, слишком велик и тяжёл для неё.
Отец не показывал виду, что встревожен болезнью Саши, но Люба видела, что в душе он опасается плохого конца. К счастью, Шурка стал поправляться. И чем лучше он начинал себя чувствовать, тем явственнее на его лице отпечатывалось упрямо-капризное настроение. Любу это сначала смешило, но вскоре она едва могла скрыть в разговоре с ним своё раздражение.
– Люба, ты чего такая кислая, всё же хорошо, – спросил за ужином отец, когда Саша заснул почти здоровым сном, – ты чем-то встревожена?
– Да… Я не справляюсь с ним, понимаешь, папа? Ты… так отдалился, работаешь себе спокойно, а на меня взвалил Шуркино воспитание, – дрожащим голосом от обиды на весь мир начала Люба, – но ведь я ему не отец и не мать. У меня нет авторитета. Как только не по его, Шурка сразу набычится и делает по-своему. Правильно или нет – его не волнует, главное, чтобы было по его.
Отец смотрел перед собой и молчал. Наконец, он мягко улыбнулся.
– Ну, это нормально для будущего мужчины. Он и должен поступать по своему разумению, иначе… попадёт под женский каблук, – отец подмигнул Любе, но та не приняла его шутки.
– Но он же ещё не знает, как правильно поступить… Я считаю, что Шурка должен извиниться и перед тобой, и передо мной за свой побег. Но он этого делать точно не будет… маленький упрямец.
– Подожди, Люба, – перебил её отец, – вот ты заладила: правильно, неправильно… А что, если посмотреть на ситуацию – интересно, неинтересно… Ведь он же ребёнок. Попробуй его чем-нибудь заинтересовать.
Люба переваривала услышанное.
– Ну… не знаю, попробую.
Она снова вышла на дежурства в больницу и в первую же смену, после вечернего обхода, побежала в конюшню.
– Степан, Степан! – крикнула она в темноту, пахнущую сеном и лошадиным потом.
– Слухаю, барышня, – вышел из ближайшего стойла конюх, – чего хотели?
– Степан, у меня к вам просьба, – замялась Люба, – вы не могли бы покатать моего Сашку, пока… Егора Семёновича нет? А то он… очень скучает по лошадям.
– Отчего же не покатать? Покатаю. Да он и сам отлично ездит.
– Знаю, но… я не могу, чтобы он катался один. Вы посмотрите за ним?
– Конечно, Любовь Матвеевна, – кивнул конюх, похлопывая по морде любопытного коня, высунувшегося из стойла, – ишь, любопытный красавчик… Ну, не балуй…
– У вас прибавление? Откуда? – удивилась Люба, разглядев молодого жеребца.
Конюх ухмыльнулся, смешно сморщив толстый нос.
– Дак… это… вроде как подарок есаулу от нашей заведующей.
– Что? – не поверила своим ушам Люба, – подарок Егору Семёновичу от Маривчук?
– Точно так… Его благородие искал себе коняку, а Маривчук обещала прикупить. Вот и купила давеча на рынке. Хорош конь-то, как раз для есаула, хоть и строптив, но его благородие умеет с лошадками управляться, дар у него…
– Маривчук сама купила? – не веря своим ушам, спросила Люба.
– Да нет, я, конечно, купил, но деньги докторша дала. Говорит, мол, подарок ему на день рождения. А вы чего же расстроились, Любовь Матвевна?
В открытую дверь конюшни ворвался ветер вместе со снежинками – наконец-то началась настоящая зима. Люба запахнула воротник душегреи и выдавила, не глядя на конюха:
– Вам показалось, Степан Спиридонович… Я не расстроилась, – прошептала она.
Выйдя на улицу, Люба остановилась. Боль в груди не давала вздохнуть. Едва переставляя ноги, она медленно побрела прочь от госпиталя, и безутешные, горькие слёзы застывали на её щеках маленькими льдинками.
Глава 11
Когда Егор сошёл с поезда, совсем стемнело. К счастью, возле вокзала толпились хохлы-извозчики.
– Куды требуется, вашблагородь?
– В Глазуновскую станицу давай.
– Запросто, пять рублёв пожалте…
Всякий раз, когда Егор въезжал в родную станицу, его охватывала вязкая тишина. Будто и нет войны – не стреляют пушки, не погибают казачки-товарищи… Тишина спящей станицы властно захватывала всё нутро Егора, как будто он погружался в глубокие, мягкие воды родного Дона. Правда, сейчас холодный ветер с голой степи холодил шею и лицо, но Егор не замечал ничего. Он ехал и размышлял, сможет ли жить, как задумал? А задумал он не возвращаться к привычной жизни. Отец после военной службы, словно русский помещик, торговал дёгтем и держал лавку. Егор так не хотел. Ему по душе была военная служба. И хоть рука действовала ещё плохо, но Любин отец, Матвей Ильич, обнадёжил – если разминать, то сила вернётся.
Шуршанье колёс и потряхиванье пролётки укачивало почище поезда, но глаза закрывать не хотелось – в безмолвном небе морозного воздуха особенно ярко и ласково подмигивали мелкие и крупные звёзды.
Отец, к счастью, оказался дома, а не у любовницы, и, когда подъехала пролётка, сам вышел встречать Егора. Его высокая фигура ждала у крыльца.
– Я как чувствовал, что сегодня приедешь, – обняв Егора, он отодвинулся и пристально посмотрел на раненую руку, которую пришлось ещё подвязать.
– Не мог же я пропустить проводы Ромки.
– Ох, Егорушка, сынок, – выскочила из дома маленькая росточком мать заполошно, – хоть ты со мной останься… Ромочку провожа-а-аем…
– Началось, – крякнул отец, доставая любимую трубку, – пошли в дом, чего людей собирать. Завтра сами придут.
В доме Егора уже ждали братья. Фёдор, заматеревший от постоянной работы на земле, с обветренным лицом, выглядел чуть ли не старше отца. Зато Роман – юный подхорунжий – из-за восторженного блеска в глазах в ожидании новой жизни смотрелся совсем мальчишкой. Братья были похожи друг на друга – оба черноволосые и кареглазые, в отличие от Егора, который пошёл в мать голубыми глазами и пшеничными кудрями. Только Ромка вытянулся выше всех. В новеньком чекмене, с папахой в руках – Егор едва узнал брата.
– Ну, братуха, собрался, смотрю, – похлопав младшего по плечу, сел он между братьями, – не боишься воевать-то?
– Ты-то не боялся, а я что… хуже? – белозубо улыбнулся Ромка.
– Ну, справа у него точно лучше нашей, – с едва различимой завистью в голосе, обронил Фёдор, – им сейчас и после училища деньжищи отваливают.
– Да уж, велики деньжищи, – заметил отец, усаживаясь за стол, куда мать поспешно собирала ужин, – если бы не я, то и половину не купили бы на казённые-то…
В углу уже лежала гора приготовленной в дорогу справы: седло с прибором, уздечка, попона, торба. В открытом чемодане виднелись рубахи, шаровары, ещё один чекмень, перчатки… Всё это Егору было знакомо, всё пригодится на службе. Но главным был конь…
– Какого коня берёшь, Ромка? Бурана, небось?
– А то кого же? Ты-то потерял своего Ворона? – спросил он, понижая голос.
– Потерял… Дивный был конь… – тяжело вздохнул Егор, – умный, чертяка, с любого расстояния услышит, бывало, мой свист, сразу прибежит. Сколько раз мне жизнь спасал, а вот я его не спас.
У стола всхлипнула мать.
– Кончайте гутарить, – хлопнул отец по столу, – а то мать сейчас сырость разведёт… Завтра ещё наплачешься, Лиза. Садитесь есть.
Наутро по старинному обычаю к дому Левченко потянулись казаки и казачки. У плетня длинным рядом протянулись оседланные лошади. Стоя на крыльце, отец с Ромкой приглашали всех в дом. Казаки почтительно кланялись и, снявши папахи, заходили в дом.
В горнице было тесно и шумно. Гул мужских голосов перебивала жалостливая бабья песня. За столом, рядом с отцом, сидели старейшины, по скамейкам разместились родственники и соседи, а молодёжь устроилась у задней стены – места на всех не хватало.
Стол был накрыт, как на свадьбу. Но казаки есть-пить не спешили – дожидались атамана, а пока вспоминали, как сами уходили вот так же на обязательную службу. Нарядные, разодетые в лучшие кофты казачки тянули и тянули протяжную песню. Мать крепилась, как могла, но, в конце концов, не выдержала и заголосила. А бабы и поддали жару, припевая:
Вдоль по морюшку, вдоль по синему
Сера утица плывёт,
Вдоль по бережку, вдоль по крутому
Родная матушка идёт. Всё кричит она да зовёт она
Громким голосом своим:
“Ты вернись же, вернись, чадо милое,
Распростись-вернись со мной…”
Наконец пришёл и атаман, Чеботарёв Илья Никитич, невысокий, но широкоплечий, рыжебородый офицер. Его форма была новее и наряднее всех, а сапоги были вычищены так, что напоминали зеркало. Следом за ним зашёл и местный учитель, Ферапонт Петрович, с необычно для местных белым лицом. Все дружно встали.
– Здорово бывали, казаки! – глухо, но твёрдо произнёс атаман.
– Слава Богу… Здорово, ваше благородие… – те загудели в ответ.
Ферапонт, совсем тощий, чахоточного вида, держа в руках кепку, молча всем поклонился и вопросительно посмотрел на отца – куда, мол, садиться.
– Садись со мной, Ферапонт Петрович, – предложил атаман, присаживаясь на лавку, – не договорили мы с тобой.
– О чём разговор был? – спросил отец, устраиваясь с другой стороны от атамана, – нам-то расскажешь, Илья Никитич?
– Да расскажу, – усмехнулся тот, – не секрет. Однако разговор получился странный. Спорили мы давеча о том, кто какой характер имеет… Я говорю, что в русских порядка меньше, а вот учитель наш не согласен. Мы, казаки, за старину держимся, за заветы предков… Правильно, казачки?
– Точно… Держимся, вашблагородь…
Атаман удовлетворённо кивнул.
– А русские… перекати-поле. У нас уж целая “русская” улица образовалась. Вы и сами, Ферапонт Петрович, со Пскова приехали. Чего на родине-то не жилось?
– Ну, во-первых, климат мне нужен потеплее, заболел я, – учитель слегка кашлянул в кулак, – в Пскове холодно для моей груди. А во-вторых, вот вы говорите – русские мужики – перекати поле… Поверьте, казачки, русские и рады никуда не выезжать со своей земли, только земли-то для них уже стало совсем не хватать. В наших деревнях-то в каждой семье по восемь-десять детей, а урожай намного меньше, чем на юге. Вот и голодает русский мужик. Слышали, небось, про поезда Столыпина?
– Это в Сибирь которые гнали? – спросил атаман.
– Да, там земли ещё много нераспаханной… Климат тяжёлый, но куда деваться… Лето зато там жаркое, урожай хлеба хороший.
– Кто в Сибирь, а кто и к нам, на Дон, понаехал, – крикнул зажиточный казак из толпы, потрясая папахой, – теперича некоторые на нашу землю претендуют…
– Точно, с “русской” улицы одна смута, – загалдели согласно казаки, – на чужой каравай рот разевают…
– Плохо, если наши люди про меж собой землю не смогут поделить, – с грустью покачал головой учитель, – смута будет.
– Да не лезьте вы к нам со своими порядками, и не будет смуты, – стукнул по столу отец.
Егор не вмешивался в разговор, но заметил, что атаману и отцу поддакивают только старые казаки. Молодые упрямо молчали и отводили глаза. Были среди них и с “русской” улицы. Те более уважительно слушали Ферапонта.
– Вот что я вам скажу, казачки, русские люди, с их неугомонной душой, и засеяли всю Россию-матушку, и со всеми народами смогли договориться жить в мире. А казаки в Сибири, да на Кубани, да на Дону – всё те же русские, которые границы стали охранять.
– Брешешь, мы другие… – ещё возмущались казаки, но Ферапонт вдруг раскашлялся и выбежал из дома, как побеждённый.
Роман, нарядившись уже в походную форму, обносил гостей чаркой водки. Папаха на его голове, лихо сбитая набекрень, только чудом держалась на жёстких кудрях. На лице застыло напряжённое выражение молодечества и неустрашимости. Сверстники принимали чарку с шутливым поклоном, хорохорясь и зубоскаля по обычаю над будущим воякой.
Егора поглядывал на калитку через окно и всё думал, придёт ли Федот Калёный. Увидев знакомую плотную фигуру, пересекающую двор, он подивился такой наглости. Неужто забыл, как поскандалил в последний раз? Подхорунжий в этот раз был без семечек, но с таким же нагло-ухмыляющимся выражением круглого лица. О чём-то пошептавшись с Ромкой, он сел за стол рядом с пожилыми казаками, одетыми в тёплые чекменя с медалями николаевских времён, и огляделся. Бабы опять завели протяжно-унылую песню, а мать снова заплакала.
– Лизавета Никитична, что причитаете над сыном? – вдруг обратился Калёный к матери, – скоро война закончится, может, Роман и воевать-то не будет.
– Как это закончится? Неужто победа? – растерянно произнесла мать, отрывая руки от лица.
– Что ерунду опять городишь, смутьян? – нахмурился отец, – чего обнадёживаешь бабу?
– Сами посудите, ваше благородие, – нагло глядя в глаза отцу, ответил Калёный, – война уж не та, что была в первый год. Теперь уж все говорят, что войну на Россию-матушку наслали немецкие советчики императора. Тем более, что и царица у него немка, хоть и спуталась с русским мужиком… Вот пусть император сам воюет с кайзером, а простым солдатам никакой выгоды нет в этой войне, – с вызовом в голосе, словно на митинге, закончил он, взглядом призывая к себе на помощь молодых казаков, толпящихся у двери.
– То есть ты, Федот, за этих… за большевиков, что-ли? Замиряться с германцем призываешь? – спросил кто-то из пожилых казаков.
Однако урядник, прибывший недавно в отпуск, не дал ответить Калёному.
– Стойте, казачки. Видел я такое у соседних стрелков… Решили они это… как ты говоришь – замириться с австрияками. Так наш есаул тотчас казачкам повелел повернуть пулемёты, а солдатикам послал вестового, мол, даю вам пять минут сроку для возвращения в свои окопы. А если нет – открою огонь и всех перестреляю.
– И что же солдатики? – мрачно спросил Калёный.
– Бегом вернулись, – ухмыльнулся урядник.
– Но ведь прав подхорунжий, – подал из толпы реплику молодой казачок, – уж больно война затянулась. Неужто не могут правители замириться? Егор Семёнович, вы-то хоть скажите своё слово.
Казаки, стоявшие рядом с молодым, согласно загудели:
– На кой чёрт нам ихняя земля, когда и своей достаточно?..
– Командиру за сопку Егория дадут, а тебя за его Егория в эту сопку и уложат.
Егор всем сердцем ощущал, что не было в словах казаков ни трусости, ни шкурничества, а только твёрдое убеждение, что пролитой кровью мир был уже оплачен с лихвой, но он всё не наступал. Нужно было что-то сказать примиряющее…
Но вместо Егора вступил в спор старший брат. Слабым местом Фёдора было то, что он быстро хмелел, и сейчас, всего с пары чарок, его движения стали неловкими, а голос звонче обычного.
– Вроде и правы вы, казачки-товарищи, а только правда, как известна, как палка – о двух концах. Согласен, нам нужен мир, но немец мира-то не просит! – возвысил он голос, – он, гад, притаился и ждёт, чтобы русская армия, как стадо баранов, вышла бы из окопов и… шарахнулась домой! Дальше-то что будет, а, господин подхорунжий? Чего молчишь, Федот? – Калёный скривил губы и смотрел зло, но на зов не отозвался. Брат продолжал: – Немец, казачки, так двинет нам в спину, что мы и опомниться не успеем, как костьми все поляжем, а враг в наше село придёт и жёнок наших да матерей… в рабство угонит. Этого хотите? Да не будет враг на нашей земле!
Старшие казаки согласно покивали, а Ромка со сверстниками смотрели в сторону. Егор ждал, что младший брат скажет клятвенное слово, но тот молчал.
– Что, казачки, язык проглотили? – усмехнулся Егор, – хотите, случай расскажу?
Все оживились.
– Что за случай? Гутарь, Егор, с тебя всегда настроение подымается, – зашумели казаки.
– Как поутихли первые бои, стали мы на позиции. Вдруг пошёл слух, что в нашем полку завелся вор, – таинственным тоном начал Егор, – у одного кинжал пропал, у другого кошелёк… Прямо беда.
– Брешешь? Из наших казаков аль с кубанских?
– Неважно, казачки, слушайте дальше. Вычислили его. Командир пытался усовестить, но… тот продолжал красть, а потом и напарник у него появился. Уж как увещевал их командир, ничего не помогало. Вещи продолжали пропадать. Казаки уж готовы были сами воров пристрелить. Наконец, выстроил нас командир. Этих двоих отдельно поставил на всеобщее позорище. С одной стороны хорунжий знамя держал, а с другой в это время вестовой старую корову привёл, какую нашёл в ближайшей деревне – худую, страшную, грязную… Так вот… командир подал знак и вестовой корову эту прямо к воришкам подвёл. Те смотрят, усмехаются. А командир и говорит, мол, если не дадите слово, что бросите своё паскудное занятие, то в скотинью задницу носом вас ткну, а потом ославлю на все станицы, что такой-то и такой-то зад старой корове целовали. Ну как? Согласны?
– И что? Целовали? – зашумели, засмеялись казаки.
– Нет, на колени бухнулись перед знаменем, поклялись, что исправятся… Потом, говорят, погибли оба, но… слово не нарушили.
– И к чему ты нам, ваше благородие, всё это рассказываешь? – дерзко и звонко перекрикивая гвалт, спросил один из молодых казачков, сидевший рядом с Ромкой, – среди нас воров отродясь не бывало.
– А к тому, казак, – обернулся к нему Егор, – что вот такие, как Калёный, предлагают нам целовать зад германцу. Пусть сам и целует…
Грохот от смеха заполонил горницу. Федот Калёный, с покрасневшим лицом, быстро выбежал из горницы. Вслед за ним на улицу бросился старший брат Фёдор. Егор даже удивился, зачем это? Не отрываясь, он смотрел на них в окно, чуть отодвинув занавеску.
Во дворе Калёный остановился закурить. Фёдор неровной походкой догнал его и схватил за плечо. Что у них за дело? – не понимал Егор.
Ноги сами понесли на двор.
– Да ты бы за своей жёнкой следил! А дом твой и сжечь можно, – услышал издалека Егор наглый голос Калёного.
– Ещё раз покажешься в нашем доме, – взревел пьяно Фёдор, – накостыляю!
– Ну давай сейчас, попробуй!
Казаки схватили друг друга за плечи. Фёдор оказался тяжелее, но плохо стоял на ногах, и оба повалились на землю.
– Егор, чего глядишь? – крикнул с крыльца вышедший следом отец, – разними их, окаянных!
В два прыжка оказавшись возле них, Егор тяжело взмахнул кулаком и двинул наглому подхорунжему по плечу, но получилось вскользь – тот увернулся, вскочил на ноги и отошёл назад, вытирая рот от грязи и тяжело дыша.
– Ну-ка, вон из нашего дома, сучья морда! – загремел отец с крыльца.
Калёный поднял отлетевшую папаху, зло прищурился и прошипел:
– Поплачите у меня, семейка офицерская…
Брат ещё порывался ударить противника, но Егор удержал его:
– Не время, Фёдор, потом разберёшься. Ты и так хорошо его огрел… Пойдём Ромку провожать…
В доме казаки сделали вид, что не заметили драки – в другой раз и сами бы не прочь размять кости, но сегодня – не след нарушать дедовский обычай.
Все поднялись из-за стола. Отец с матерью взяли в руки старинные образа.
– Ну, сынок мой младший, Роман Семёнович, вот мой тебе наказ: служи честно, подлых людей не слушай, имя наше не позорь, а Россию-матушку грудью своей защищай…
Ромка бухнулся в ноги отцу:
– Благословите, батюшка, коня седлать.
– Бог благословит, сын, и я благословляю, – осенил его иконой отец.
Все казаки повернулись в красный угол и чинно перекрестились. Егору показалось, что это не младшего брата провожают на сборы, а его…
Пожилая казачка-запевала затянула чуть надтреснутым голосом:
Да не чаяло красно солнышко
На закате рано быть,
Да не думала родимая матушка
Своего сыночка избыть…
Вечером, вспоминая проводы брата, Егору опять почудилось, что не только его семья, но и вся казачья жизнь летит под уклон, в жуткую чёрную темень пропасти. Традиции блюли, а ни теплоты, ни понимания среди казаков уже не было. Молодые – словно сироты безземельные, рождённые чужими отцами, – смотрели на старейшин как на врагов. Последние с пренебрежением плевались на требования “пришлых мужиков” и изо всех сил сопротивлялись переменам, не желая ни отдавать, ни продавать землю.
Федот Калёный был как раз из пришлых… Каждый, кто видел, как подхорунжий скачет на своём коняке, не задумываясь, назвал бы его настоящим казаком. Но у него и таких, как он – “мужиков”, пришедших с центральной России – не было земли.