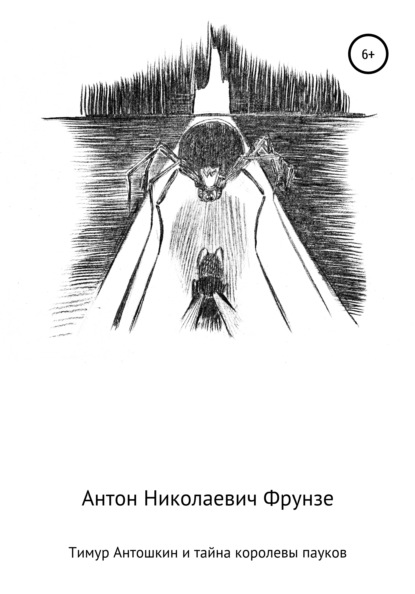- -
- 100%
- +

Пролог: Цена слова
Все начинается с тишины. Не с той, что несет покой, а с той, что предвещает бурю. Тишина в нашем доме была густой, липкой, как смола. Она впитывала в себя каждый звук: скрип половиц, потрескивание поленьев в очаге, прерывистое дыхание отца. И мое собственное, слишком громкое, слишком заметное. Я научился дышать тише.
Мне было десять зим. В мире, где выживание измерялось весом собранного урожая и силой, чтобы его защитить, я был обузой. Худой, большеглазый, я больше походил на лесного духленка, чем на сына землепашца. Но была у меня одна слабость, за которую мне и вырвали язык. Не слабость, нет. Слабость – это когда не можешь поднять меч. У меня же был порок. Я был болен словами.
Они рождались где-то глубоко внутри, клубились, просились наружу. Сказки, которые шептали мне деревья по ночам. Истории, которые виделись в языках пламени. Небылицы о рыцарях и драконах, о затерянных королевствах и говорящих волках. Я не мог их удержать. Они вырывались наружу легкими, пестрыми, как перья сойки, ложью.
В тот день я соврал в последний раз.
Была глубокая осень. Воздух звенел от холода, пах дымом и гниющими листьями. Отец вернулся с поля хмурый, с пустыми руками. Мороз побил последнюю репу. Мы сидели за грубым деревянным столом, и мать разливала похлебку, больше похожую на горячую воду с запахом лука. Голод был нашим третьим гостем за столом, молчаливым и беспощадным.
И тут вошел сосед, Боргар. Человек с глазами, как у заплывшего свиньи, и руками, способными сломать хребет теленку. Он принес весть: лорд объявил, что за голову кабанчика-одичалыша, который портит посевы на северном выгоне, дают мешок зерна.
Сердце мое екнуло. Я знал того кабанчика. Небольшого, с щетиной, как иглы ежа. Я видел его у ручья. Он был не одичалый, а просто голодный и напуганный.
– Его стая, – выпалил я, и все взгляды устремились на меня. – Их там целая стая. Огромные. Я видел.
Слова повисли в воздухе. Отец медленно повернулся ко мне.
– Ты видел? – его голос был тихим, как скольжение ножа по коже.
Я кивнул, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Ложь уже была выпущена, теперь ей нужно было придать вес.
– Где? – спросил Боргар, его маленькие глазки заблестели.
– У старого дуба, на выгоне, – я сам поверил в это. Мне уже виделись десятки могучих зверей. – Их там много. Шесть. Нет, семь! С огромными клыками.
Я расписывал, размахивал руками, создавая из воздуха целое полчище. Я видел, как в глазах отца и Боргара загорается огонек надежды. Не на одну тушу, а на семь. На семь мешков зерна. На спасение от голодной зимы.
Отец молча встал, взял свой ржавый топор и копье. Боргар последовал за ним. Они ушли, а я остался сидеть, сжимая в руке краюху черствого хлеба, герой, спасший семью от голода. Я уже сочинял в голове историю об их великой победе.
Они вернулись глубокой ночью. Я не спал, притворяясь, что дремлю на лежанке. Дверь отворилась с скрипом, впустив стужу и запах леса. Я услышал их тяжелое дыхание. И больше ничего. Ни туши, брошенной на пол. Ни звука разделки мяса. Только тишина. Та самая, густая и липкая.
Затлели угли в очаге, осветив мрачные лица мужчин. Они были пусты. Ни зверя, ни следов его не нашли. Просидели в засаде до темноты, замерзшие, злые и обманутые.
Отец подошел ко мне. Его тень накрыла меня целиком.
– Вставай.
Его голос был безжизненным. Я поднялся, дрожа. Он взял меня за руку, его пальцы впились в мое запястье, как клещи. Мать что-то прошептала, но он отстранил ее одним взглядом. Он вытащил меня из дома во тьму. Боргар шел следом, его фигура угрожающе чернела на фоне звезд.
Мы шли к старой кузнице, давно заброшенной. От нее пахло ржавчиной и пеплом. Отец втолкнул меня внутрь. В центре стоял кузнечный горн, холодный и мертвый. Отец разжег лучину. Пламя заплясало, отбрасывая на стены уродливые, прыгающие тени.
– Ты видел кабанов? – спросил он. Его голос был тихим и страшным в этой тишине.
Я, плача, затряс головой. Правда рвалась наружу, но было уже поздно.
– Семь кабанов? С клыками? – он наклонился ко мне. Его дыхание пахло хлебным квасом и гневом. – Ты дал нам надежду. Самую сладкую и самую ядовитую надежду. А потом отнял ее. Ты знаешь, что хуже голода? Надежда, за которой следует пустота.
Боргар молча достал из-за пояса щипцы – длинные, почерневшие от копоти и времени.
Ужас сковал меня. Я не мог пошевелиться, не мог издать ни звука. Я только смотрел, как отец берет эти щипцы и поворачивается ко мне. В его глазах не было злобы. Была какая-то страшная, нечеловеческая решимость. Справедливость.
– Слова – это все, что у нас есть, мальчик, – просипел он. – Наше слово – это наша честь. Наше богатство. Ты же превращаешь их в прах. В ложь. Ты плюешь на дар, который тебе дан. Если ты не умеешь ими пользоваться, ты не заслуживаешь их вовсе.
Он двинулся ко мне. Я попытался вырваться, закричать, но Боргар схватил меня сзади, его могучие руки сдавили меня как тиски. Я видел, как огонек светильника отражается в холодном металле щипцов.
– Этот орган рождает только яд, – сказал отец. – Он не нужен тебе.
Боль была белой и ослепительной. Она заполнила собой весь мир, выжгла все мысли, все страхи, все сказки. Это было чувство, будто тебя разрывают изнутри, лишая самой сути, самого воздуха. Я чувствовал металлический вкус крови, хлещущей мне в горло, задыхаясь ею. Я слышал свой собственный, хриплый, животный вопль, который так и не успел оформиться в слово.
А потом наступила тишина. Настоящая. Глубокая. Бесконечная.
Я пришел в себя на холодном земляном полу кузницы. Во рту был комок окровавленной тряпки. Тело ломило, а мир вокруг плыл и качался. Я был пуст. Внутри не осталось ничего. Ни сказок, ни страхов, ни слов. Только тихий, мертвый звон и вкус железа.
Отец стоял на пороге, глядя в ночь. Он не оборачивался.
– Теперь ты понял цену слова, – произнес он в темноту. – Теперь ты чист.
Он ушел. А я остался. Лежал и смотрел, как тени от пляшущего пламени ползают по стенам, и думал, что они теперь никогда не сложатся в картинку, никогда не расскажут мне историю. Они были просто тенями.
С того дня я стал другим. Мир потерял звуки. Вернее, он наполнился ими, но они больше не складывались в смыслы. Я слышал лай собак, крики торговцев, шум ветра, но это был просто шум. Фон. Белый шум жизни, к которому я не имел отношения.
Я научился слушать иначе. Я видел, как напрягается шея у матери, прежде чем она заплачет. Как сжимаются кулаки у отца, когда он злится. Я видел ложь в бегающих глазах и правду в опущенных плечах. Я стал читать мир по его теням, по его жестам, по молчанию. Мое молчание стало моей крепостью. Моей тюрьмой. Моей единственной правдой.
Иногда, во сне, я все еще пытаюсь кричать.
Там, в царстве теней, где время течет иначе, а память обретает форму и голос, я снова становлюсь тем мальчиком. Тем, в чьей глотке еще живут слова. Они рвутся наружу – легкие, пестрые, обманчивые. Я кричу о помощи. Я зову мать. Я проклинаю отца. Я рассказываю самую прекрасную сказку на свете – ту, где никто никому не причиняет боли. Звук рождается где-то глубоко в груди, набирает силу, поднимается по горлу, он вот-вот сорвется с губ, звучный и настоящий, он спасет меня, он изменит всё…
И просыпаюсь.
Всегда одно и то же. Резкий, судорожный вздох, будто я тонул и только что вынырнул. Горло сведено жгучей, невыносимой судорогой – мускулы, десятилетиями привыкшие к немоте, яростно сжимаются, пытаясь издать тот самый, несостоявшийся крик. Он застревает внутри, этот звук-призрак, давящий на кадык, разрывающий трахею изнутри. Беззвучный вопль. Тихий визг собственной плоти, которую предали.
И на губах – соленый вкус. Сперва я думаю, это кровь. Та самая, что хлынула когда-то горьким потоком, заполнила рот, лишила дара речи. Но нет. Это слезы. Они текут по щекам ручьями, беззвучно и обильно, соленые, как море, которого я никогда не видел. Они текут сами по себе, будто душа, которой не дали слова, ищет выход через глаза. Я не рыдаю. Я просто лежу и плачу. Без звука. Без всхлипов. Только предательская влага на лице и та же, знакомая до тошноты пустота внутри.
И тогда приходит она. Боль. Не та, острая, что была тогда – та была чистой, почти что очищающей. Это – другая. Она не белая. Она серая, как пепел. Глубокая, как старый шрам, который ноет к непогоде. Она живет в основании языка – в том месте, где остался лишь корень, уродливый, заросший рубцовой тканью комок плоти. Она пульсирует там тихим, навязчивым напоминанием. Она – мое первое и последнее слово. Слово, которое я не смог произнести. Слово, которое мне вырвали. Оно состоит не из букв. Оно состоит из этой пульсации, из этого вечного, беззвучного вопля в горле, из вкуса соли на губах.
И я понимаю, что плачу до сих пор. Не с того дня. С того дня я не переставал. Вся моя жизнь с тех пор – это один непрекращающийся, беззвучный плач. Всякая ложь, которую я когда-то породил, оказалась правдой. Семь кабанов. Семь мешков зерна. Я заплатил за них. И плачу до сих пор.
Глава первая: сталь и тишина
Тишина кончилась. Её разорвали на клочья.
Ещё вчера был только стук колес телеги, давящая тревога в животе и монотонное покачивание в такт шагам усталой кобылы. Ещё вчера мир пах пылью дороги, потом и кожей ремней от моего латного дублета. Ещё вчера я был просто телом, везущим себя на убой. Телом, которое кормили похлёбкой и которое спало на голой земле, не видя снов. Или не помня их.
А потом пришло утро. И с ним – гром.
Сначала он пришёл не через уши. Он пришёл через ноги. Глухой, мощный гул, от которого дрожала земля. Словно где-то впереди билось гигантское сердце, и его удары сотрясали мир. Повозка завиляла, лошадь заржала, испуганно закатив глаза. Вокруг меня люди, такие же наёмники, как и я, зашевелились, напряглись. Никто не говорил. Все слушали этот гул. Он заполнял всё.
Потом пришли запахи. Резкий, едкий дымок от только что разожжённых кузнечных горнов, где торопливо правили лезвия. Запах влажной шерсти от овечьих шкур, наброшенных поверх доспехов. И главное – запах страха. Он был кислым, животным, он исходил от всех нас, смешиваясь с запахом пота и влажной земли.
И только потом пришли звуки. Сначала отдалённые, разрозненные. Пронзительный рог где-то справа. Приглушённые крики командиров. Лязг железа о железо. А потом – нарастающий шум, как приближающаяся буря. Уже не гул, а рёв. Рёв тысяч глоток. Рёв, в котором тонуло всё.
Меня толкнули в спину. Я спрыгнул с повозки, мои ноги, ватные от страха, едва удержали тело, отяжелевшее от внезапно надетых на меня лат. Мне всучили в руки алебарду. Деревянное древко было шершавым, холодным. Железный наконечник – неестественно тяжёлым. Я сглотнул. В горле встал тот самый, знакомый комок. Комок немоты. Но сейчас он был комком чистого, неразбавленного ужаса.
Строй нас, пехоты, был неровным, кособоким. Впереди – копейщики, их длинные пики упирались в небо, как мёртвый лес. Я – где-то сбоку, в толпе таких же, как я, оборванцев, нанятых за обещание добычи и миску похлёбки. Рядом со мной дышало, хрипело, материлось существо с обожжённым лицом и одним глазом. Он крепко сжимал в руках здоровенный боевой молот. Он что-то говорил мне, оскаливая гнилые зубы. Я видел, как двигаются его губы, как трясётся кадык. Но я не слышал ни слова. Только рёв. Сплошной, оглушительный рёв.
Потом строй дрогнул и пошёл вперёд. Не потому, что кто-то захотел, а потому, что сзади напирали другие. Мы двинулись на этот гул, на этот рёв. Как стадо.
И тогда я его увидел.
Поле. Оно было не зелёным. Оно было грязно-коричневым, изрытым, усеянным чем-то тёмным. И оно шевелилось. Словно муравейник, который кто-то ткнул палкой. Тысячи точек – люди, лошади – сталкивались, сшибались, исчезали. Всё это было окутано дымом и паром, поднимающимся от тысяч вспотевших тел.
Сердце заколотилось где-то в горле, громко, бешено, заглушая на мгновение все остальные звуки. Моё дыхание стало частым, поверхностным. Я ловил ртом воздух, но его не хватало. Каждый вдох обжигал лёгкие, каждый выдох вырывался клубом пара в холодном утреннем воздухе. Я чувствовал, как под латами по спине струится пот. Как дрожат мои руки. Как ноги вязнут в раскисшей, холодной грязи.
Мы шли. Шли в гору. Казалось, прошла вечность. А рёв всё нарастал. Теперь в нём можно было различить отдельные визги – человеческие и лошадиные. Лязг, треск, хруст. Это был звук ломающегося дерева и кости.
И вот первые стрелы. Свист, который разрезал воздух где-то над головой. Потом другой – ниже. И тихий, влажный звук – «шмяк» – справа от меня. Кто-то коротко вскрикнул и рухнул. Я даже не обернулся. Не мог. Я смотрел только вперёд, на этот шевелящийся кошмар. Моё дыхание стало ещё чаще, почти собачьим, я чувствовал, как у меня кружится голова. Я пытался вдохнуть глубже, но грудь сдавливало железом дублета и страхом.
Расстояние таяло. Теперь я видел лица. Искажённые гримасой ярости или ужаса. Разинутые в немом крике рты. Выпученные глаза. Видел, как человек в синем камзоле падает, хватаясь за живот, из которого вываливается что-то розовое и пульсирующее. Видел лошадь без всадника, с торчащим из бока обломком копья, которая металась и била копытами, заливая всё вокруг пеной и кровью.
Пахло теперь не страхом. Пахло кровью. Медной, резкой, сладковатой. Пахло кишками. Едким, невыносимым смрадом разорванного брюха. Пахло гнилой землёй, взрытой копытами и сапогами.
И вот мы врезались в них.
Это был не удар. Это было падение в мясорубку.
Всё смешалось. Пропал горизонт. Исчезло небо. Был только частокол тел, мечей, древков. Толпа сомкнулась вокруг, стала тесной, горячей, давящей. Кто-то с силой толкнул меня в спину, и я полетел вперёд, прямо на зазубренный край вражеского щита. Я успел подставить древко алебарды. Дерево треснуло с сухим, коротким звуком. Из разъярённых, перекошенных уст передо мной вырвался вопль, который я не услышал, но почувствовал – вибрацию в воздухе, брызги слюны на своём лице.
Я отшатнулся, споткнулся о что-то мягкое – о тело, – и едва удержал равновесие. Моё дыхание стало хриплым, сиплым. Из горла вырывался какой-то непроизвольный, хриплый звук – не крик, не слово, просто стон вытесняемого из лёгких воздуха. Адреналин ударил в голову, мир сузился до маленького пятачка передо мной.
Поднял алебарду. Не помню, как. Руки делали это сами. Движение, которому нас неделю учили на плацу – неуклюже, топорно. Вложить в удар вес всего тела.
Древко дрогнуло, отдавая в ладони тупой, болезненной отдачей. Я не попал по щиту. Остриё скользнуло по краю лат, отскочило и вонзилось во что-то более мягкое – в шею. Кожа, мышцы поддались с ужасающей лёгкостью. Тёплая жидкость брызнула мне на руку, на лицо. Солёная. Кровь.
Человек – мальчишка, его лицо было совсем юным – широко раскрыл глаза. Он не закричал. Он просто захлебнулся. Из раны на его шее хлестала алая струя, заливая ему кольчугу. Он сделал шаг, качнулся и рухнул на колени, уставившись на меня пустыми, невидящими глазами.
Я замер. Время остановилось. Всё вокруг – крики, лязг, рёв – ушло куда-то далеко, превратилось в глухой фон. Я смотрел на него. На кровь на своих руках. Я чувствовал её тепло. Чувствовал её запах. Он был повсюду. Во рту. В носу. В лёгких.
И внутри меня что-то оборвалось. Весь ужас, всё напряжение вырвалось наружу одним-единственным способом. Моё дыхание. Оно сорвалось с цепи. Из сиплого хрипа оно превратилось в быстрые, короткие, неконтролируемые всхлипы. Я дышал, как загнанный зверь. Воздух врывался в лёгкие и вырывался обратно, не принося кислорода. Грудь дико ходила ходуном, ударяясь о пластины дублета. Я трясся. Всё моё тело била мелкая, частая дрожь. Я стоял над убитым мальчишкой и просто дышал. Беззвучно рыдал, задыхался посреди ада.
А ад продолжался. Меня снова толкнули. На меня налетел кто-то большой, с окровавленным топором. Я на автомате поднял алебарду, отвесил удар древком ему по голове. Он рухнул. Я не видел, жив ли. Я просто шёл и дышал. Это частое, судорожное, собачье дыхание было моим единственным звуком. Моим плачем. Моей молитвой.
Я проваливался в ямы, спотыкался о тела – ещё тёплые, ещё дёргающиеся. Под ногами хрустело. Что-то. Кость? Сухая ветка? Я не смотрел. Я боялся посмотреть.
В ушах стоял оглушительный звон. Но сквозь него пробивались другие звуки. Тот самый, специфический, мокрый звук, когда металл входит в плоть. Визг – не человеческий, а лошадиный, высокий, пронзительный, от которого кровь стынет в жилах. И крики. Не слова. Просто крики. Короткие, отрывистые – от боли. Долгие, завывающие – от ужаса. И хрипы. Влажные, клокочущие хрипы, которые были страшнее любых криков.
Я стал частью этого механизма. Частью этой мясорубки. Я не думал. Я реагировал. Бил. Отступал. Падал. Поднимался. Моя алебарда стала тяжёлой, липкой от крови и грязи. Руки затекли, плечи горели огнём. А я всё дышал. Так же часто, так же бешено. Это дыхание было моим якорем. Единственным доказательством, что я ещё жив.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.