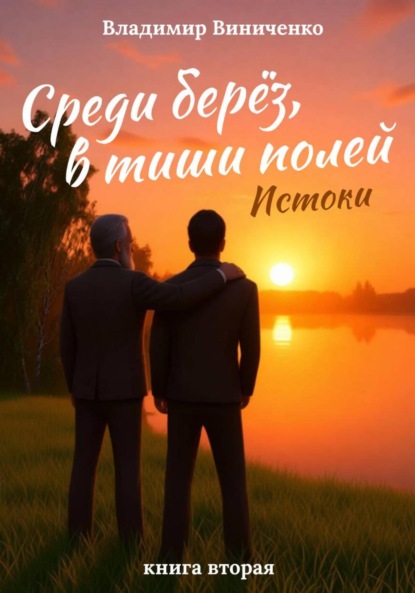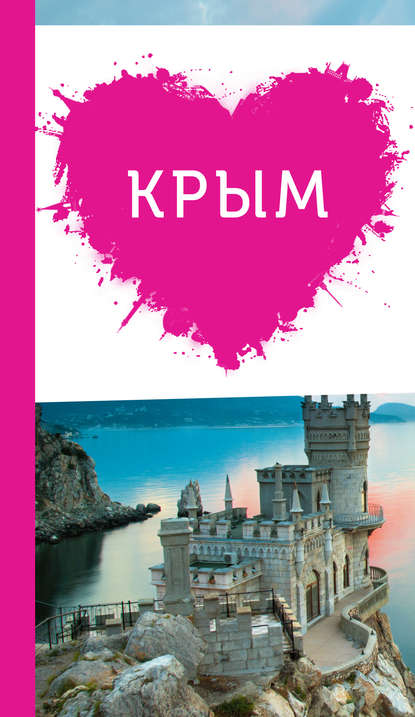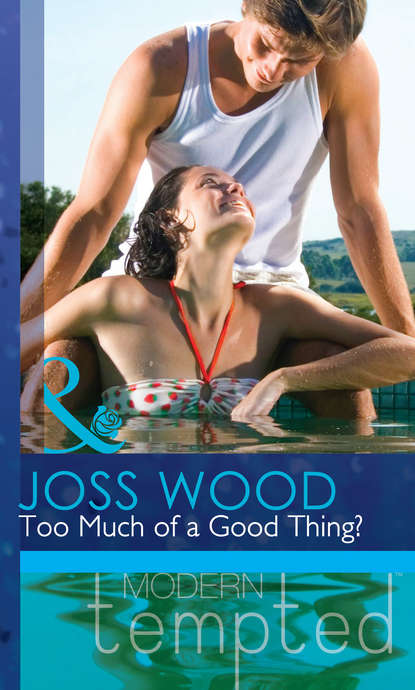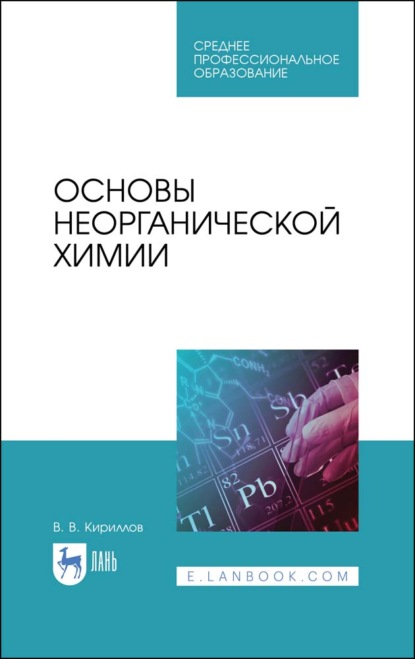- -
- 100%
- +

Эта книга – дань памяти. Памяти моего прадеда и всех жителей деревни Правососновки, чьи жизни стали немыми свидетельствами великой эпохи.
Изучая архивные документы и слушая семейные предания, я с удивлением обнаружил, что судьба моего деда, описанная в первой книге, была не началом, а логичным продолжением гораздо более масштабной истории. За его стойкостью, трудолюбием и глубочайшей привязанностью к семье и земле стояла сила целых поколений.
«Истоки» – это попытка восстановить ту невидимую нить, что связывает нас с прошлым. Это история моих предков – простых крестьян, ставших сибиряками. Они не принимали глобальных исторических решений, но именно их ежедневный подвиг – пахота, сев, строительство домов, рождение и воспитание детей – создавал тот фундамент, на котором стояла и стоит страна.
Через судьбу Андрея Винникова, прошедшего через огонь войны и медленные подвиги мирного труда, я хотел показать, откуда берётся эта особая, сибирская закалка характера. Как из первых брёвен, срубленных на берегу быстрой реки Ачи, вырастает целая династия. Как из личных трагедий и всеобщих потрясений рождается неистребимая воля к жизни.
Я писал эту книгу с чувством долга и бесконечной благодарности. Перед ними – ходоками, солдатами, тружениками. Перед Прадедом. Перед Правососновкой, которая медленно умирает, но которая навсегда осталась на карте нашей семейной памяти. Надеюсь, мне удалось хотя бы отчасти передать масштаб их тихого, но несокрушимого подвига.
С глубоким уважением к читателю и к памяти моих предков,
Владимир Виниченко.
Глава 1. Ходоки
Столыпинские вагоны были похожи на деревянные ульи, из которых вытряхнули рой. Люди высыпали на непривычный сибирский перрон, щурясь от непривычно яркого, даже осенью, солнца. Воздух был другим – не вязким и хлебным, как в Белоруссии, а острым, хвойным, с примесью дыма и первой пороши. Так пахла свобода. Так пахла надежда.
В толпе выделялся Семён Берёзкин. Не ростом – он был невысок и жилист, – а особым, плотничьим складом. Его руки, привыкшие сжимать топорище и выводить венцы изб, сжимали единственный узел с нехитрым скарбом. Он был одним из тех, кого называли «ходоками». Не беглец, не отчаявшийся, а разведчик. Ему было поручено односельчанами из Гомельского уезда найти место, где земля душу кормит.
Его спутники, такие же худые, обветренные мужики из Смоленской губернии, уже жались к сбитой с ногтей карте. Им указали на свободные земли в Томском уезде, в Гондатьевской волости. Дорога от станции до места заняла несколько дней на подводах, а потом и пешком. Сибирь встречала их молчаливой, суровой мощью. Бескрайние поля, уже тронутые первым заиндевевшим ветром, сменялись стеной леса – тёмного, осиново-берёзового, нетронутого.
И вот они вышли к тому месту. Протекала неширокая, но быстрая река, которую местные звали Ача. Рядом – возвышенность, сухое место, пригодное для постройки. Вокруг – густой осинник, перемежающийся берёзовыми рощицами, и участки целинной земли, тучные, чёрные, лишь слегка тронутые жёлтой осенней травой. Место было красивым, дышащим силой и покоем.
«Вот… – хрипло проговорил один из смолян, снимая картуз. – Ось тут и станем».
Семён Берёзкин молча обошёл возвышенность, потрогал землю, посмотрел на изгиб реки, оценивая, где ставить мельницу. Он не сказал ни слова, но по тому, как он глубоко вдохнул этот воздух и как замер его взгляд, стало ясно – решение принято. Часть ходоков решила вернуться за семьями. Но Семён и ещё несколько самых отчаянных остались. Остались, чтобы с нуля, с одним топором да парой рук, начать новую жизнь.
Они рубили первые брёвна для землянок, пока не встали первые избы. Они дали своему поселению имя, простое и ясное, как и всё вокруг – Большеречка. Они ещё не знали, что их внуки будут рассказывать правнукам о том самом первом дне, когда их прадед, Семён Берёзкин, стоял на этом холме и выбирал будущее.
А в 1906 году это было просто начало. Первая борозда на бескрайнем сибирском поле. Первый венец большого, крепкого дома, имя которому – род.
Глава 2. Сын основателя
Семён Павлович Берёзкин не просто построил дом в Большеречке. Он врос в эту землю корнями, как вековой кедр. Его руки, твёрдые и исчерченные морщинами-бороздами, за два десятилетия превратили участок дикой целины в крепкое, образцовое хозяйство. Он был из тех, кто умел разговаривать с землёй и слушать её. И земля платила ему взаимностью.
Его сын, Андрей Семёнович, рос в тени отцовской мудрости и силы. Он не был первопроходцем, но был достойным наследником. С малых лет он впитывал нехитрые, но безошибочные правила жизни, которые Семён Павлович передавал не в длинных наставлениях, а в деле. Как определить по солнцу время, когда лучше всего начинать косьбу. Как по цвету зари предсказать погоду на завтра. Как отличить добротное бревно от трухлявого. Эти знания становились частью его плоти и крови.
Когда Андрей Семёнович подрос и посватался к Василисе, девушке из соседней семьи переселенцев, Семён Павлович молча, одобрительно кивнул. Он видел в ней ту же крестьянскую сметку и спокойную силу, что и в своей жене. Свадьбу сыграли скромной, но весёлой. Молодым Семён Павлович выделил участок земли рядом со своим домом и помог срубить первую избу – небогатую, но крепкую, на совесть.
В 1918 году, в мартовскую стужу, когда зима уже сдавала свои позиции, но весна ещё не решалась вступить в полные права, в этой новой избе родилась девочка. Назвали её Алёной.
Её первыми игрушками были деревянные ложки, вырезанные дедом Семёном, и пёстрые лоскутки от маминых рукоделий. Её мир был ограничен стенами избы, двором да бескрайним, как море, небом над головой. Она училась ходить, цепляясь за половицы, поскрипывавшие под босыми ногами, а за окном шумела жизнь большой деревни, основанной её дедом.
Андрей Семёнович, глядя на дочь, видел в ней не просто продолжательницу рода, а новый, более прочный виток их семейной истории. Он был сыном основателя, а она – его внучкой, дитя этой, уже обжитой и плодоносящей земли. Он мечтал, чтобы её жизнь была проще и сытнее, чем у его отца, но чтобы в ней осталась та же ясная, нехитрая правда труда и любви к своему дому.
И пока маленькая Алёна делала свои первые шаги, Большеречка жила своей жизнью: гудели ветряные мельницы, дымился кирпичный заводик, в лавке торговал первый купец. Деревня, как и девочка, росла и крепла. А старый Семён Павлович, сидя на завалинке своего дома, смотрел на них обоих – на внучку и на своё село – с тихим, суровым удовлетворением. Дело его жизни было в надёжных руках.
Глава 3. Внучка первопоселенца
Мир восьмилетней Алёны был небольшим, но прочным и наполненным любовью. Он состоял из родной избы в Большеречке, где пахло хлебом и высушенной мятой, тёплых рук матери Василисы и сильных, пахнущих дымом и дегтём рук отца, Андрея Семёновича. Ещё был дед Семён, седой и важный, на чьих коленях она могла сидеть, слушая бесконечные истории о далёкой Белоруссии и первых годах на сибирской земле.
А потом в этот мир пришло слово «Правососновка». Оно звучало в разговорах взрослых всё чаще и чаще, тихо и серьёзно, особенно по вечерам. Алёна не понимала до конца, что оно значит, но чувствовала, что это что-то важное. Отец, вернувшись оттуда, говорил: «Земля там богаче, да и леса поосновательней. Рука об руку жить будем».
Однажды отец, вернувшись из очередной поездки, твёрдо сказал:
– Перебираемся. Не за тридевять земель. Пешком дойти можно. Рукой подать.
Для Алёны это было и облегчением, и тревогой. Уезжать – страшно. Но ехать далеко – ещё страшнее. А тут – рядом. Значит, можно будет навещать деда Семёна? Значит, Большеречка не исчезнет навсегда?
День отъезда запомнился навсегда. Не было ни слёз, ни долгого прощания с дедом. Семён Павлович, суровый и молчаливый, проводил их до околицы.
Дорога была недолгой. Они шли пешком, отец вёл подводу с нехитрым скарбом. Алёна, держась за край телеги и оглядывалась. Они перешли небольшой ручей, углубились в берёзовый перелесок, и вот она открылась – Правососновка. Не чужая, не далёкая, а соседняя. Такая же улица, такие же избы, только стоят чуть иначе, и люди на них смотрят чуть по-другому.
Изба, которую для них приготовили, была старой, почерневшей от времени, и пахла незнакомо – сыростью и холодной золой. Первую ночь на новом месте Алёна проплакала, зарывшись лицом в подушку, набитую свежим сеном. Ей казалось, что она в изгнании.
Но утром её ждало открытие. Выглянув в маленькое заиндевевшее окошко, она увидела незнакомых детей. А на пороге стоял мальчик лет девяти, её ровесник, с серьёзным взглядом и тёмными, вьющимися волосами. Он протянул ей кусок ещё тёплого, только что испечённого хлеба.
– Меня Андрей зовут, – сказал он просто. – Наша изба через два двора. Слыхал, вы из Большеречки.
Она робко взяла хлеб. Он был вкусным. Так восьмилетняя Алёна Берёзкина, внучка основателя Большеречки, впервые встретила Андрея Винникова. Её мир не рухнул. Он просто расширился на одно берёзовое редколесье, отделявшее её старый дом от нового. А первый друг в этой новой жизни стоял на пороге, и звали его Андрей.
Глава 4. Сын земли
Правососновка раскинулась на пологом склоне, и дом Винниковых стоял чуть выше других, будто старший в строю. Здесь вырос Андрей, и каждая тропинка здесь была ему родной.
Его отец, Иван Винников, прибыл в Сибирь из белорусской деревни под Могилёвом в годы столыпинских переселений. С собой привёз только топор, пилу да материнскую икону, завёрнутую в льняной платок. Часто говорил сыну, глядя на бескрайние сибирские просторы: «Земля тут суровая, но честная. Не как наша, песчаная. Клади в неё душу – и хлебом отзовётся». Эти слова стали для Андрея главным заветом.
Семилетку Андрей окончил в 1930 году, когда ему было шестнадцать лет. Для деревенского парня в те годы это было серьёзным образованием. Учительница, Марья Васильевна, говорила его отцу: «Парень способный, ему бы дальше учиться». Но Иван Винников, почёсывая затылок, отвечал: «Книжки – это хорошо, Мария Васильевна, а земля без хозяина – сирота. Надо хозяйствовать».
После школы он сразу пошёл работать в колхоз «Дружба». Его руки, сильные и чуткие, казалось, понимали язык металла и земли. Когда в деревню привезли первый трактор «Фордзон-Путиловец», все смотрели на него как на диковинку. Андрей провёл рядом всю ночь, изучая каждый винтик, а утром завёл его с пол-оборота, к изумлению бывалых механизаторов.
Но не только работой жила деревня. По вечерам молодёжь собиралась на околице – пели песни, водили хороводы. Здесь, у старой берёзы с раздвоенным стволом, он впервые по-настоящему заметил Алёну Берёзкину. Не соседскую девочку, а стройную девушку с тихой улыбкой, которая прятала глаза, когда он смотрел на неё.
Как-то раз он вызвался помочь её отцу, Андрею Семёновичу, чинить плетень. Работали молча, но между ними возникло то особенное понимание, которое рождается только между людьми, знающими цену труду. Андрей Семёнович, присматриваясь к ловким движениям парня, кивнул одобрительно: «Рук не боишься. Это хорошо. У нас в Белоруссии таких парней уважали».
Когда стемнело, Андрей проводил Алёну до калитки. «Заходи как-нибудь», – сказала она, и в её голосе он услышал не просто вежливость.
Он шёл домой и чувствовал, как в душе рождается что-то новое, незнакомое и тёплое. Он был сыном этой земли, наследником белорусских переселенцев и сибирских первопроходцев.
Глава 5. Грамота
В 1931 году в Правососновку пришла большая государственная кампания – ликвидация безграмотности. Из райцентра прислали молодую учительницу, Веру Семёновну, которая с энтузиазмом принялась за дело. Но столкнулась с суровой правдой: взрослые мужики и женщины, с утра до вечера занятые тяжёлым трудом, не горели желанием вечерами сидеть за партами. Многие откровенно стеснялись своего неумения, другие считали это пустой затеей.
Вера Семёновна, отчаявшись, обратилась к председателю колхоза. Тот, почесав затылок, сказал: «Им своего брата слушать будут, а не городскую барышню». И указал на Андрея Винникова: «Вот парень, он у нас грамотный, семилетку окончил. Его и уважают».
Так в двадцать лет Андрей стал культработником. После трудового дня, уставший, он шёл не домой, а в сельский клуб, где наскоро сколотили несколько парт. Его «учениками» были люди, которых он знал с детства: сорокалетний конюх Федот, вечно хмурый плотник Архип, молодые девчата из полеводческой бригады.
Поначалу было нелегко. Федот, краснея до корней волос, ворчал: «Да что я, малый ребёнок, что ли, палочки эти выводить?» Андрей не спорил. Он подходил, брал его натруженную, исколотую щепками руку в свою и терпеливо водил по бумаге: «Вот смотри, дядя Федот, буква «М». Как ворота. Твои ворота в сарае помнишь? Так вот она».
Он учил их не по учебникам, а по жизни. Для плотника Архипа разбирал слова «топор», «бревно», «рубка». Для девчат – «сноп», «жатва», «урожай». Он видел, как загораются глаза у людей, когда они вдруг понимают, что эти закорючки складываются в знакомые и важные слова.
Как-то раз, уже глубокой осенью, когда занятия шли полгода, Федот, закончив писать, вдруг поднял на Андрея сияющие глаза: «Сынок, а я ж теперь имя своё могу написать! Фе-дот!» В голосе его была такая гордость, будто он не три буквы вывел, а целый дом построил.
Именно тогда Андрей в полной мере осознал ценность тех семи классов, которые ему удалось окончить. Грамота перестала быть просто его личным умением. Она стала мостом, который он помогал перекинуть другим – от тёмного прошлого к светлому будущему. Он видел, как меняются люди, как расправляются их плечи, как в их речи появляются новые, прежде незнакомые слова.
По вечерам, возвращаясь с занятий, он чувствовал усталость, но это была светлая усталость. Он шёл по тёмной деревенской улице и знал, что зажёг сегодня ещё несколько огоньков в кромешной тьме невежества. И где-то в глубине души понимал: этот навык – учить других, вести их за собой – пригодится ему в жизни ещё не раз. Возможно, это и есть его настоящее призвание – быть не просто сыном земли, а её просветителем.
Глава 6. Двойной праздник
Тот день в Правососновке выдался на редкость ясным и тёплым, будто сама осень решила сделать подарок молодым. В воздухе витал особый запах – свежеиспечённого хлеба, спелых яблок и дыма из печных труб. Не просто так – в доме Винниковых играли свадьбу.
Андрей Винников, двадцатитрехлетний парень с твёрдым взглядом и уже заслуженным уважением односельчан, стоял у окна в чистой вышитой рубахе. Сегодня он женился на Алёне Берёзкиной – той самой девушке из соседней Большеречки, с которой когда-то делил хлеб на пороге её нового дома.
Горница была полна народу. Шумно, тесно, пахло пирогами и махоркой. Иван Винников, отец жениха, хлопотал около стола, подливая гостям домашней браги. С ним сидел Андрей Семёнович Берёзкин – важный и довольный. Его дочь выходила замуж за лучшего парня в деревне, грамотного, работящего.
Сама Алёна в простом белом платье, сшитом матерью, сидела рядом с женихом. Лицо её сияло, а глаза смеялись. Она смотрела на Андрея и видела в нём не того мальчика с хлебом, а сильного, надёжного мужчину.
Гуляли всем селом. Молодых выводили под руки во двор, осыпали зерном и хмелем. Старики вспоминали свои свадьбы, молодёжь заводила песни. Под гармошку пускались в пляс, и даже серьёзный Андрей не удержался, пустился вприсядку, вызывая одобрительные крики гостей.
Когда солнце скрылось за крышами изб и самые упорные гости разошлись, молодые остались одни. Они вышли на крыльцо. Ночь была тихой и звёздной. Пахло дымом и прелой листвой.
«Вот и стали мы мужем и женой, Алёна», – тихо сказал Андрей.
«Стали», – ответила она, и в этом одном слове была вся её вера в их общее будущее.
Они стояли, держась за руки, и смотрели на спящую деревню. Они не знали, что всего через два года его заберут на финскую войну. Не знали, что им предстоит пережить голод, потери и великую войну. Не знали, что их большая семья будет насчитывать десять детей.
В тот вечер 1937 года они были просто Андрей и Алёна – молодые, счастливые и полные надежд. Их двойной праздник – день рождения невесты и свадьба – стал началом новой жизни. Началом большой семьи Винниковых, чья история только начинала свой долгий путь среди берёз, в тиши полей.
Глава 7. Призыв
Тот первый год их совместной жизни пролетел в труде и обустройстве быта. Молодая страсть постепенно переплавилась в спокойную, глубокую привязанность, крепкую, как стены их избы. А в марте 1938 года, когда за окнами ещё стояли сугробы, но уже пахло весенней капелью, в их доме произошло первое большое чудо. На свет появилась Ольга.
Ольга. Старшая дочь. Она была крошечной, с тёмным пушком на голове и серыми, удивлёнными глазами. Андрей подолгу мог сидеть рядом, пока Алёна кормила её, и смотреть, как шевелятся её маленькие пальцы. В его жизнь вошло новое, незнакомое чувство – отеческая нежность, смешанная с огромной ответственностью.
Ольга росла тихой и спокойной девочкой. К полутора годам она уже уверенно топала по избе, лопоча что-то на своём языке, и её смех стал самым дорогим звуком для родителей. Она была живым воплощением их любви, их общего начала.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.