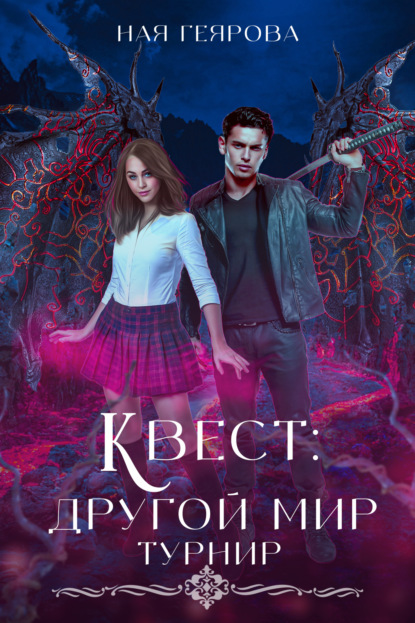«Мёртвые души» психиатров (о жизни, творчестве, психическом здоровье Н.В.Гоголя)
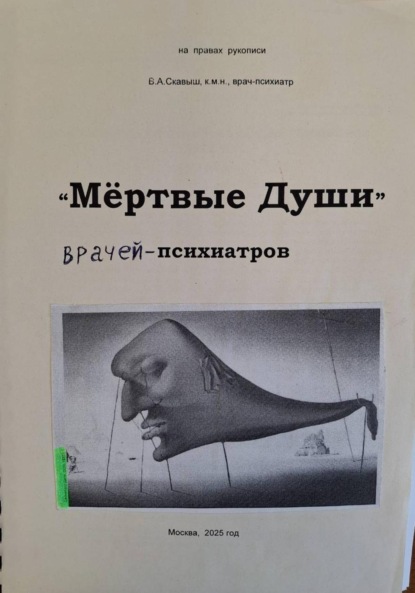
- -
- 100%
- +
–
А “Переписка”? – спросил Бодянский.
–
Она войдёт в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные… Но это уже, разумеется, явится … после моей смерти.
Слово “смерть” Гоголь произнёс совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным, ввиду полных его сил и здоровья. …”
59
55
В воспоминаниях Г.П.Данилевский упомянул, как по поручению Гоголя, он передал в Петербурге ректору П.А.Плетнёву толстую пачку ассигнаций. Со слов ректора П.А.Плетнёва, то был не первый случай тайной раздачи Гоголем своих денег на стипендии, что разбивает ложь В.Ф.Чижа и В.В.Вересаева о “рентной установке” Гоголя в отношении царя, высокопоставленных сановников. Наоборот, Николай Васильевич – меценат. Гоголь с христианским смирением дарил свои трудовые деньги бедным студентам incognito. У Юрия Трифонова в “Доме на набережной” дама беседует в поезде с писателем, едущим в Париж на конгресс ассоциации литераторов: “После Берлина она сделалась ещё разговорчивей и откровенней. “Говорят, будто русское дворянство выродилось, я и в Париже это слышала, а я вам скажу обратное: наша кровь самая прочная, потому что мы вынесли всё.”6056
26 января 1852 года после непродолжительной болезни, 35 лет от роду, скончалась жена видного славянофила А.С.Хомякова – Екатерина Михайловна Хомякова (в девичестве Языкова, сестра поэта Николая Языкова, одного из ближайших друзей Гоголя). Смерть эта тяжело повлияла на душевное состояние Николая Васильевича, который очень любил Екатерину Михайловну и её мужа. Гоголь был крестным отцом их сына – Николая Хомякова. Утром, после первой панихиды, он сказал овдовевшему Хомякову: “Всё для меня кончено.”6157 А по свидетельству Степана Петровича Шевырёва он произнёс у гроба покойной: “Ничего не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было бы смерти.”6258
28 января Гоголь зашёл к сёстрам Аксаковым, жившим тогда на Арбате (Николо-Песковский переулок) и спросил их о том где похоронят Екатерину Михайловну. Получив ответ, что в Даниловом монастыре и возле её брата Николая Михайловича Языкова, он, как помнит Вера Сергеевна Аксакова: “покачал головой, сказал что-то о Языкове и задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенёсся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прервать его мысли.”6359
29 января (вторник) состоялись похороны Е.М.Хомяковой, умершей от инфекции, видимо, от брюшного тифа. В 50-е годы XIX века тиф не делили на брюшной, сыпной, возвратный. Ни Кох, ни Пастер ещё не сделали своих открытий в микробиологии. Тифом в медицине называли симптомокомплекс. Понятно, что лечение тифа неясной этиологии было тогда плачевным.
На похоронах Гоголь не был. Известно, что в тот день он ездил в Преображенскую больницу для умалишённых, что в Сокольниках (на Матросской Тишине), и хотел повидать московского блаженного Ивана Яковлевича Корейшу. В записках врача А.Т.Тарасенкова (только в них) упоминается о той поездке: “…он поехал в Преображенскую больницу на извозчике. Подъехав к воротам больничного дома, он слез с санок, долго ходил взад и вперёд у ворот, потом отошёл от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой.”6460 Тарасенков сделал примечание: “По случаю дурной погоды, он мог в такую прогулку простудиться; впрочем, начало и течение болезни не показывали простудного (острого) характера…” Весьма важное примечание. Конечно, не от пневмонии умирал Гоголь, но переохлаждение всё же понижает иммунные силы у организма, не прибавляя здоровья.
30 января в своём церковном приходе Гоголь заказал панихиду о новопреставленной Екатерине. В одной беседе Аксаковым, он сказал, что ему стало легче на душе. “Но страшна минута смерти,” – добавил он. “Почему же страшна?” – возразил кто-то из Аксаковых. – Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти.” – “Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешёл через эту минуту”, – сказал он.6561 На вопрос, почему его не видели на похоронах, Гоголь ответил: “Я не был в состоянии”. “Вполне помню, – пишет Вера Сергеевна, – он тут же сказал, что в это время ездил далеко. – Куда же? – В Сокольники. – Зачем? – спросили мы с удивлением. – Я отыскивал своего знакомого, которого, однако же, не видал.”6662
1 февраля (пятница) Гоголь у обедни в своей приходской церкви. Родительская суббота мясопустной недели в том году приходилась на 2 февраля – праздник Сретения Господня, а потому поминовение усопших было перенесено на пятницу. После богослужения он снова идёт к Аксаковым, хвалит свой приход и священника (отца Алексия Соколова, ставшего в последствии протопресвитером Храма Христа Спасителя). Вера Сергеевна вспоминала: “Видно было, что он находился под впечатлением этой службы, мысли его были все обращены к тому миру.” Разговор зашёл о А.С.Хомякове. Вера Сергеевна заметила, что Алексей Степанович напрасно выезжает, потому что скажут, что он не любил жены. Гоголь возразил: “Нет, не потому, а потому, что эти дни он должен был бы употребить на другое; это говорю не я, а люди опытные. Он должен был бы читать теперь Псалтирь, это было бы утешением для него и для души жены его. Чтение Псалтири имеет значение, когда читают его близкие, это не то, что раздавать читать его другим.”6763
3 февраля (воскресенье) Гоголь был у обедни в приходе по месту жительства, оттуда вновь пешком заходит к Аксаковым, снова хвалит служившего священника и всю Литургию, но жалуется на усталость. С врачебной точки зрения – факт – появление повышенной усталости (астенический симптом, не специфичен, но характерен для клинической манифестации всех болезней). “В его лице, – даёт свидетельские показания Вера Сергеевна, – точно было видно утомление, хотя и светлое, почти весёлое выражение.” Гоголь снова говорил о Псалтири. “Всякий раз как иду к вам, – сказал он, – прохожу мимо Хомякова дома и всякий раз, и днём и вечером , вижу в окне свечу, теплящуюся в комнате Екатерины Михайловны (там читают Псалтирь).”6864
В понедельник (4 февраля) писатель заехал к С.П.Шевырёву и сказал, что “некогда ему теперь заниматься корректурами”. Степан Петрович и его жена София Борисовна заметили перемену в его лице и спросили, что с ним случилось. Он отвечал, что “дурно себя чувствовал и кстати решился попоститься и поговеть”. Шла седмица масленицы. “Зачем же на масленой?” – спросил его Шевырёв. – “Так случилось, – отвечал он, – ведь и теперь Церковь читает уже: “Господи, Владыко живота моего!” и поклоны творятся”.
5 февраля Гоголь сказал посетившему его на дому Шевырёву о “расстройстве желудка и о слишком сильном действии лекарства, которое ему дали”. Что за лекарство дали в доме Толстых? Не знаю, думаю, что-то народное, травы из домашней аптеки. На 3-й день болезни к астении добавилось “расстройство желудка”. В тот день Гоголь ездил на извозчике к отцу Николаю Никольскому в церковь Преподобного Саввы Освященного на Девичьем поле, с которым познакомился в 1842 году, когда по возвращении из-за границы гостил у М.П.Погодина, – сообщить, что начал говеть, просил назначить день, когда можно приобщиться Святых Даров. Священник советовал дождаться первой недели поста, потом согласился на четверг, в ближайшую Божественную Литургию с Пресуществлением, в среду на масленой её служить не положено. Оставлю в стороне спасение души, но врач, лечащий тело, видит новый симптом – исчез аппетит. Признак идёт вслед за расстройством желудка. Жаль, не было микроскопа и чашки Петри с агарагаром (посеять микрофлору кишечника, кровь на стерильность).
Известно, что 5 февраля Гоголь прощался с ржевским священником Матфеем Константиновским, посетившим графа Толстого. С того дня Гоголь прекратил всякие литературные занятия, начал читать молитвенное правило к Святому Причащению, что все христиане знают. Вечером он проводил отца Матфея на станцию железной дороги. Пастырь предложил поменяться шубами, Гоголь отказался, хотя шуба отца Матфея была лучше (смысл чего различно интерпретируют). 5 февраля беседовали они о литературе и не только, спорили, но помирились (что документально подтверждают сохранившиеся подлинники писем их друг к другу). После отъезда отца Матфея Гоголь переживал, что нечто резкое сказал в споре, но получив тёплое письмо от пастыря, успокоился, обрадовался, что примирение состоялось. Можно говеть:
Хотя ясти, человече, Тело Владычне,
Страхом приступи, да неопалишися: огнь бо есть.
Божественную же пия Кровь ко общению,
Первее примирися тя опечалившим…
Кроме молитвенного правила ещё принято читать каноны, акафист Иисусу сладчайшему. Короче, я не вижу «психопатологии» в том, что Гоголь молился долго, слёзно и с чувством радости. 7 февраля Гоголь исповедовался, причастился в своём приходском храме. М.П.Погодин со слов служившего священника свидетельствует: перед принятием Святых Даров он пал ниц, много плакал, был слаб и почти шатался.6965 Итак, астения усилилась. Вечером того дня (четверг, 7 февраля) Гоголь пришёл на вечернюю службу в церковь и просил священника отслужить благодарственный молебен, упрекая себя, что забыл исполнить сие утром. Из церкви он заехал к жившему рядом Погодину, который заметил перемену в нём. На вопрос, что с ним, ответил: “Ничего, я нехорошо себя чувствую.” Посидев минуту, он встал – в комнате были посторонние – сказал, что зайдёт к домашним, остался у них тоже на минуту. Кроме того, княжна Варвара Николаевна Репнина-Волконская запомнила, что последний раз видела Гоголя в четверг на масленой, т. е. 7 февраля. “Он был ясен, но сдержан, – свидетельствует она, – и всеми своими мыслями обращён к смерти; глаза его блистали ярче, чем когда-либо, лицо было очень бледно. За эту зиму он очень похудел, но настроение духа его не заключало в себе ничего болезненного; напротив, оно было ясным, более постоянно, чем прежде. Мысль, что мы его скоро потеряем, была так далека от нас; а между тем тон, с каким он прощался, на этот раз показался нам необычайным, и мы между собой заметили это, не догадываясь о причине. Её разъяснила нам его смерть”.7066
С депрессивным «психозом» не вяжется, что настроение его не заключало в себе ничего болезненного; было ясным, более постоянно, чем прежде. Специально повторяю слова свидетельницы, которая близко знала освидетельствуемого. Нет снижения настроения. В ночь с 8 на 9 февраля, после продолжительной и тёплой молитвы на коленях пред образами Гоголь уснул на диване, во сне услышал некий “голос”, говоривший ему, что он скоро умрёт. Проснувшись, он позвал за священником с просьбой соборования, когда тот пришёл, то решили повременить. 9 февраля (суббота) он едет к А.С.Хомякову, которого не видел с 27 января. “В субботу на масленице, – запомнил Погодин, – он посетил также некоторых своих знакомых. Никакой особенной болезни не было в нём заметно, не только опасности; а в задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновенного”.7167
В Прощённое воскресенье Гоголь просил А.П.Толстого передать свой портфель с рукописями на рецензию митрополиту Московскому Филарету (Дроздову). А.П.Толстой отказал, не желая утверждать друга в мысли о скорой смерти. С того дня Гоголь перестал выезжать из дому по физической слабости. Врач Тарасенков пишет, что когда граф Толстой для отвлечения начал говорить о предметах когда-то живо его занимавших, Гоголь ответил с благоговейным изумлением: “Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!”7268 (исходу из временной жизни в вечность) В этом смысле не биологическая смерть страшна личности, а расплата за нераскаянные грехи, возмездие на Страшном суде.
Тайна смерти – не предмет науки, а твой личный опыт при исходе души из тела. Такие факты сознания умирающего – факты личные, интимные, внутренней жизни, которые не понять извне сциентисту, не дедуцировать из научных гипотез. Умирание – опытное знание. Сознание близкой собственной смерти, как исхода из временной жизни в вечность (трансцендентность), совпадает с личным исихастическим экспериментом. Опыт умирания не является универсальным, одинаковым у всех, а индивидуален. Псалом Давида 33: «смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат». Лютость, «тяжесть» смерти, определяется внутренним духовным состоянием личности человека, – смерть в Духе или вне Духа? Мёртвой душой будет закоренелый грешник, отрёкшийся от Бога. Диавол (отец лжи) – мёртвый дух, передает своё омертвение тем, кто сочетался с ним. Зато смерть праведника, мученика за истину, – радостна, спокойна, светла (диалог “Федон” Платона). Отношение личности к своей смерти – последнее доказательство теоремы: что есть «истина»?
В Европе психиатрия, включая и русскую, развивалась в русле естественно-научной парадигмы, в русле школы соматиков, считавших душевные болезни ничем не отличающимися от телесных, от болезней головного мозга (В.Гризингер и др.). А разве мысли, эмоции, волевые поступки мозг рождает, как печень секретирует желчь? Головной мозг порождает сознание как собака И.П.Павлова условные рефлексы? Редукционизм психиатрии связан с тем, что философ И.Кант показал: люди знают объекты (“вещи для нас”, феномены), а абсолютная истина (“вещь в себе”, ноумен) не познаваема. Такой скептицизм у Понтия Пилата: “что есть истина?” (Иоанн., 18, 38) Ещё хуже гносеология сенсуализма (гипотеза отражения В.И.Ульянова). Проверить свои ощущения о реальности “я” никак не может, кроме как снова через свои ощущения. Такая проверка есть порочный круг, что знал врач Ибн Сина, а допущение Ленина о чистых ощущениях ложно. Наоборот, осознанность включена в самую ткань ощущения людей. Связь ощущений и сознания составит неразрывное единство смысла жизни, как тело, душа, дух связаны. Опыт смерти – однократен, уникален. Мигом своей смерти не поделишься в научном журнале. Ощущения homo sapiens, в отличие от животных, не являются “чистыми”, что показано гипотезой лингвистической относительности Сепира – Уорфа.
Лишь ясность в исходной точке об объективной реальности позволит идти тернистой дорогой знания, отличая здоровье души от многочисленной психопатологии. Трагедия от анозогнозии (неосознанной болезни души). Ошибка мировосприятия – душевная болезнь («сон разума»). Коварство сна с открытыми глазами в том, что сомнамбула не сознаёт, как усыплён сетью “я”, загипнотизирован своими страстями. Анозогнозия опасна, что понимал Гоголь, рисуя в “Портрете” как живописец Чартков проснулся, как ему кажется, а на самом деле погружаясь в онейроид, говоря психиатрически. Сон разума – безумие, учил Сократ в притче о пещере.7369 Калейдоскоп кажимостей люди мнят объективной реальностью и живут загипнозириванные страстями, в рабстве у своих страстей. Этот сомнамбулизм описал и Педро Кальдерон в драме “Жизнь есть сон”.
Можно неправильно толковать содержание прочитанного текста, не заметив даже того, что вы не поняли, что хотел сообщить Вам автор, увы, можно иметь уши и не слышать, иметь глаза и не видеть! Ложное смыслообразование извратит восприятие личности человека, руку приложившей. Это случилось с Гоголем? В романе “Чума” Альбера Камю читаю: “Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Люди – они скорее хорошие, чем плохие, и, в сущности, не в этом дело. Но они в той или иной степени пребывают в неведении, и это-то зовётся добродетелью или пороком, причём самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему всё ведомо.”7470
Великий пост в 1852 году начался 11 февраля. Первая неделя Великого поста отличается не одним чтением красивейшего канона Андрея Критского, длительным молением на коленях с горящей свечой в полумраке храма, но и строгим постом (до среды пищу взрослые православные не вкушали). Со слов графа А.П.Толстого, у которого столовался писатель, известно, что начиная с понедельника Гоголь принимал пищу дважды: утром кусок хлеба или просфору, запивая липовым чаем, а вечером – кашу, саго или чернослив (как болящий ослабил пост). Нет отказа от пищи по “бредовым мотивам”.
Понедельник первой недели Великого поста. В доме графа Толстого (на втором этаже) служили Великое повечерие. Гоголь едва уже мог подняться наверх по ступеням, однако выстоял всю службу. В чём причины астении, снижения аппетита? Астения явно телесная, не апатия, не пассивность. А.П.Толстой, видя, как изнуряется друг, решил прекратить у себя в доме богослужения.
В третьем часу 12 февраля Гоголь будит слугу Семёна и велит подняться на второй этаж, открыть печную задвижку, затопить печь в кабинете. Писатель вынул из портфеля рукописи и положил их пачкой, но огонь плохо принимался. Слуга просил барина не делать того. Гоголь отвечал, что дело не твоё и лучше помолись. Далее он вынул пачку, связанную тесьмой, развязал и начал класть свои тетради в огонь по отдельности. Он разбирал тетради. Например, он сохранил текст о православном Богослужении, который в последствии С.П.Шевырёв назвал “Размышление о божественной Литургии”. Что именно сжёг накануне смерти Гоголь? То же, что и душевнобольной Мастер в одноимённом романе М.А.Булгакова?
Любые гипотезы не имеют под собой научных доказательств. Фантазии – не предмет науки.
Утром, согласно запискам Тарасенкова писатель сказал с горечью Толстому: “Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжёг всё. Как лукавый силён, вот до чего меня довёл. А я было думал разослать на память друзьям по тетрадке: пусть бы делали, что хотели.”7571
Близкие по смыслу слова привёл в некрологе М.П.Погодин. Самого Погодина не было рядом в роковой час Гоголя, он писал со слов А.П.Толстого, перед публикацией просив графа просмотреть черновик некролога. Записка Погодина к графу Толстому хранится в рукописном отделе Пушкинского Дома, как подлинный исторический документ, на который можно научно опереться. Граф ответил: “Думаю, что последние строки о действии и участии лукавого в сожжении бумаг можно и должно оставить (оставить ненапечатанными – пояснение). Это сказано было мне одному без свидетелей: я мог бы об этом не говорить никому, и, вероятно, сам покойный не желал бы сказать это всем. Публика не духовник, и что поймёт она об такой душе, которою и мы, близкие, не разгадали. Вот и ещё замечание: последние строки портят всю трогательность рассказа о сожжении бумаг.”7672 Погодин сам сомневался в целесообразности публикации слов Гоголя, сказанных tete-a-tete: “Вообразите, как силён злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определённые, а сжёг главы “Мёртвых душ”, которые хотел оставить друзьям на память после моей смерти”.7773 Это доказывают строки ответной записки М.П.Погодина к графу А.П.Толстому. Однако, в конце концов Погодин публикует интимное признание писателя, хотя граф был против (публика – не духовник, не поймёт).
Отец Матфей был последним, кто читал главы второго тома “Мёртвых душ”. Ему ставят в вину, что он якобы сказал сжечь рукопись. Отец Матфей отрицал, что по его воле погибла рукопись. Пишет протоиерей Феодор Образцов: ”Говорят, что вы посоветовали Гоголю сжечь 2-й том “Мёртвых душ”? – Неправда и неправда… Гоголь имел обыкновение сожигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстановлять их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов 2-й том; по крайней мере, я не видал его. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: Глава, как обыкновенно писал он главами. Помню на некоторых было написано: глава I, II, III, потом должно быть, 7, а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать своё суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал. … Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены черты, которых… во мне нет, да к тому же ещё с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски… только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за неё даже больше, чем за переписку с друзьями”.7874
Свидетельство протоиерея Матфея важно. Он – единственный человек, который был для Гоголя авторитетом, “отцом”. Трудно представить, что Гоголь, имея законченный чистовой вариант второго тома «Мёртвых Душ», дал духовнику разрозненные тетради. В опровержение идеи Мелехова, что Гоголь сжёг рукопись якобы в состоянии тяжёлой депрессии, самоуничижения с бредом греховности, будут следующие показания пастыря: “Говорят даже, что Гоголь сжёг свои творения потому, что считал их греховными?” – “Едва ли, – в недоумении сказал о. Матфей, – едва ли …” Он как будто в первый раз слышал такое предположение. “Гоголь сожёг, но не все тетради сожёг, какие были под руками, и сожёг потому, что считал их слабыми”.7975
Соматическое состояние Гоголя продолжало ухудшаться. Очевидцы отмечали усталость и вялость до изнеможения. Со слов А.Т.Толстого знаем, что писатель в те дни принимал пищу по чуть-чуть, всего очень по-немногу.8076 Факт против голодовки!
14 февраля (четверг) Гоголь по свидетельству А.С.Хомякова сказал: “Надобно меня оставить, я знаю, что должен умереть.”8177 Гоголь сделал распоряжения насчёт своего крепостного слуги Семёна и просил графа Толстого разослать деньги “бедным на свечки”. Денежные средства, что будут выручены от переиздающихся его сочинений, он тоже попросил раздать неимущим.
16 февраля (суббота) Гоголя посетил врач Тарасенков впервые за время болезни. Пациент был сильно слаб физически, отвечал вяло, но внятно, разумно. А.Т.Тарасенков пишет: “Онъ смотрелъ какъ человекъ, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякiе слова напрасны, колебанiе въ решенiи невозможно. Впрочемъ, когда я пересталъ говорить, онъ въ ответъ произнёсъ внятно, съ разстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: “Я знаю, врачи добры: они всегда желаютъ добра”; но вследъ за этим опять наклонилъ голову, отъ слабости ли, или въ знакъ прощанiя – не знаю. Я не смелъ его тревожить долее, пожелалъ ему поскорее поправляться и простился съ нимъ, вбежал къ графу , чтобъ сказать, что дело плохо, и я не предвижу ничего хорошаго, если это продолжится. Графъ предложилъ мне зайти дня через два узнать, что делается. Неопределительные отношенiя между медиками не дозволяли мне впутываться въ распоряженiя врачебные, темъ более, что Гоголь былъ на рукахъ у своего прiятеля Иноземцева, съ которымъ былъ коротокъ и который его любилъ искренно. Какъ сокрушаюсь я теперь, что я, по словамъ графа, прiехалъ только спустя два дня, – можетъ быть, я бы какъ нибудь могъ ещё подействовать ко спасенiю его. Но какъ и чемъ? Медицина не даёт правилъ, какъ действовать при такихъ неопределённыхъ явленiяхъ и для такой исключительной личности.”8278
16 февраля по свидетельству А.П.Толстого, Гоголь повторно приобщился Святых Даров. Соответственно, перед причастием была исповедь. Священник неадекватного (человека в психозе) не пустит к Святым Дарам. Кроме того, 18 февраля Гоголь соборовался. Все положенные на соборовании Евангелия он слушал: “в полной памяти, в присутствии всех умственных сил своих, с сокрушением полного молитвой сердца, с тёплыми слезами”.8379 Требы исполнял отец Иоанн Никольский, настоятель церкви Преподобного Саввы Освященного на Девичьем поле. Рядом с больным находился ещё и отец Алексей Соколов, священник храма Преподобного Симеона Столпника. За три дня до кончины больного навестил московский гражданский губернатор Иван Васильевич Капнист. Гоголь молча лежал лицом к стене, с чётками в руках. Мелехов писал, что последние 10 дней жизни Гоголь не проронил ни слова (“доказательство” мутизма с кататонической обездвиженностью?). Но, может быть, перебирая чётки, он шептал Иисусову молитву?! А по свидетельству очевидца известно точно и достоверно, что Николай Васильевич обернулся, сказав Капнисту: “У вас в канцелярии десять лет служит на одном и том же месте чиновник, честный, скромный и толковый труженик, и нет ему ходу и никакой награды; обратите внимание на это, ваше превосходительство, хотя бы в мою память” (это был сын иерея Иоанна Никольского). 8480