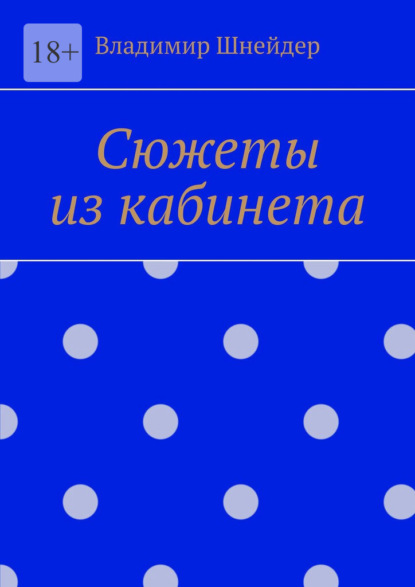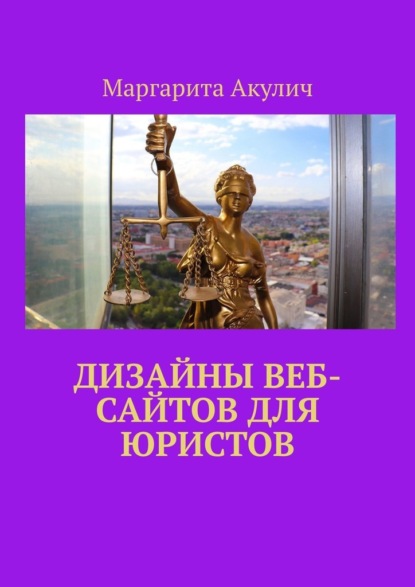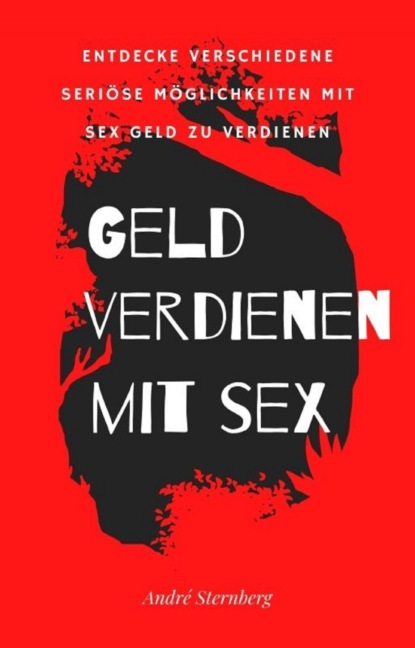- -
- 100%
- +
День 26 августа 1394-го года Гвидо де Монтанор, по-видимому, счел самым знаменательным в своей жизни. Дело в том, что, зайдя утром этого дня в лабораторию, он увидел в сосуде кусочки металла желтого цвета. Под его радостные призывы сбежались ученики. После элементарных исследований всем стало очевидно, что желтый металл в сосуде это золото высшей пробы, и слава об адепте из Руана (свидетелей триумфа было достаточно) со временем распространилась по всей Европе.
На следующий день Гвидо поместил в полученную жидкость еще несколько кусочков свинца, но желаемого результата не последовало. Он повторил то же самое с железом, и опять фиаско. Тогда алхимик подумал, что этот объем жидкости исчерпал свой потенциал. На протяжении нескольких последних лет своей жизни Гвидо де Монтанор пытался повторить удачный опыт, варьируя количества ингредиентов и время процедур воздействия. Но тщетно. Получить магистерий вторично он так и не сумел. Досада от этого обстоятельства была не последней из причин, сведших его в могилу.
В час ночи 26 августа 1394-го года Жак Моро незаметно покинул дом Гвидо де Монтанора, тщательно прикрыв за собой окно. Сыну богатого торговца из Руана было не жалко золотой монеты, чтобы, пользуясь полученными навыками, расплавить ее в тигле и потом остудить порциями его содержимое, дабы отплатить за несправедливость своему наставнику. Несколько дней назад Гвидо де Монтанор вычеркнул имя своего самого талантливого ученика Жака Моро из списка своих подопечных. Случилось так, что молодая и пылкая Агнесса, уведя Жака в отдаленный уголок сада, настойчиво добивалась его ответной реакции на свои эротические порывы. Совершенно случайно в этот момент пару застал Гвидо. Агнесса все представила мужу в обратном свете, и Жак был изгнан навсегда. В своем дневнике (из которого нам и известна эта история) Моро сожалеет о своем поступке, но пишет, что у него не хватает духа рассказать все бывшему учителю. Да и лучше ли от этого станет ему, поверившему в получение магистерия.
На сегодняшний день местонахождение дневника Жака Моро неизвестно, но отрывки из него широко цитирует Франсуа Бертье в своей книге, направленной против алхимии и ее приверженцев (Francois Berthier: Les Charlatans, Paris, 1813).
1. Стандартные нормативные представления о магистерии, философском камне в среде алхимиков выработались в XVI-ом веке во времена Парацельса (и во многом благодаря ему). В соответствии с ними таинственный реактив имеет кристаллическую структуру красного или оранжевого цвета (алый лев).
СТРЕЛА
Священная Римская империя, вторая половина XIII-го века. В замке герцога Ингрида Изенбурга царило веселье. Справляли помолвку его сына Рауля с дочерью герцога Генриха Гогенлоэ красавицей Антонией. В жаркий июльский вечер центром празднества оказалась большая затененная зданием лужайка, расположенная справа от широких мраморных ступеней входа в жилую часть замка. Другая сторона поляны была ограничена деревьями сада, протянувшегося до самой крепостной стены. Именно здесь на зеленой траве были расставлены столы с вином и многочисленными закусками, здесь собрались съехавшиеся на торжество гости. Внезапный вскрик и падение Рауля вызвало оцепенение присутствующих. Мертвый Рауль лежал на спине, в левой стороне груди торчала пронзившая плоть стрела. Говоря точнее, из груди сына герцога Изенбурга торчала хвостовая часть арбалетного болта. Среди гостей возникла паника, а запоздавшей страже не удалось задержать стрелка, нанесшего смертельный удар со стороны сада. Но у самой стены был обнаружен арбалет, который, по-видимому, уже взобравшийся на стену стрелок в спешке случайно обронил. С другой стороны стены нашли и колчан с арбалетными стрелами. Один из военачальников герцога Изенбурга опытный лучник и арбалетчик Иоганн Штерн совершенно однозначно определил находки как амуницию арбалетчика курфюрста Георга фон Мальтцана.
Соседские отношения между феодалами уже давно были не самыми добрыми из-за споров о местоположении пограничных земельных камней, что, впрочем, не приводило к вооруженным столкновениям. Но теперь, вспомнив о желании курфюрста женить своего сына Рихарда на Антонии и его, правда пьяной, но все же публичной клятве во что бы ни стало помешать свадьбе Антонии и Рауля, в свете последних открывшихся фактов герцог Ингрид Изенбург, уже не сомневаясь, что главным виновником смерти его сына является фон Мальтцан, начал кампанию против курфюрста. Передовые отряды герцога застали сына курфюрста за охотой. С многочисленной свитой и егерями Рихард фон Мальтцан увлеченно охотился на кабанов. Почти все люди курфюрста были убиты, а раненому Рихарду с кучкой окруживших его рыцарей удалось спастись и укрыться за стенами родового поместья. Тем временем пышущий гневом герцог Изенбург уже готовился к осаде замка курфюрста.
Армия курфюрста Георга фон Мальтцана была не менее многочисленна, чем войско герцога Ингрида Изенбурга. Возможно, курфюрст фон Мальтцан сам не был настоящим воином, возможно, он не был уверен в силе духа и боевом опыте своих солдат, а может быть, повлияла военная слава регулярно участвующей в имперских конфликтах армии герцога. Так или иначе курфюрст отправил послов к маркграфу Фридриху Эттингену с просьбой о военной помощи. Посол курфюрста Герман Фуггер передал маркграфу Эттингену на словах и в письменном виде послание своего господина. Георг фон Мальтцан в случае положительного ответа обещал отдать свою дочь Элеонору замуж за сына маркграфа Германа Эттингена. Амбициозный маркграф Фридрих Эттинген давно добивался этого союза, желая достичь таким образом возможности большего влияния во внутренней политике империи¹, но каждый раз получал отказ. Сейчас удовлетворенный предложением курфюрста он пообещал ему поддержку и помощь в разрешении конфликта.
В тот роковой день смерти Рауля Изенбурга всадивший в его сердце арбалетный болт молодой стрелок, карабкающийся на крепостную стену по веревочной лестнице, действительно, впопыхах обронил арбалет. Не желая терять драгоценного времени, он спустился по другую сторону стены и выбросил колчан со стрелами. Внизу его ждал старший спутник, с трудом удерживающий в изуродованных руках поводья лошадей. Вскочив в седла, они помчались прочь от замка в направлении города Виллаха. Этими людьми были отец и сын Кателли из Генуи. Бернардо Кателли – бывший генуэзский арбалетчик вместе с сотнями своих соратников-соотечественников арбалетчиков из Генуи защищал стены Пармы во время осады города войсками императора Фридриха II в 1247-ом году. Во многом благодаря наносимому стрельбой арбалетчиков урону в рядах противника осада города была сорвана, а разгневанный Фридрих II приказал калечить попавших в плен арбалетчиков так, чтобы они никогда больше не могли взять в руки арбалет. К несчастью, Бернардо с несколькими другими генуэзскими арбалетчиками был захвачен в плен воинами герцога Изенбурга, отряды которого входили в объединенную армию императора. Именно по приказу герцога Ингрида Изенбурга и на его глазах солдаты отрубали пальцы генуэзским арбалетчикам. Пришедший в сознание изувеченный Бернардо Кателли поклялся отомстить. В отместку герцог должен лишиться чего-то очень для него дорогого. Он настоял, чтобы его сын Амато с детства обучался стрельбе из арбалета, и сам как мог помогал ему советами. Наконец пришло время осуществить задуманное. Бернардо стало известно, что недавно покинувший Геную сын ближайшего соседа и лучший друг его сына Гуидо Бонелло обосновался в Виллахе, городе во владениях маркграфа Эттингена совсем недалеко от земель герцога Изенбурга. Туда под видом пилигримов и отправились Бернардо и Амато Кателли. Они остановились у Гуидо Бонелло в ожидании подходящего случая, который не заставил себя долго ждать.
Скакавшие во весь опор Бернардо и Амато еще засветло въехали в Валлах, где были схвачены стражниками маркграфа у дверей дома Гуидо Бонелло. Вскоре маркграф Фридрих Эттинген передал герцогу Ингриду Изенбургу убийц его сына, выступив, по сути, миротворцем в военном конфликте между герцогом и курфюрстом, который теперь представлялся всего лишь досадным недоразумением. Бернардо и Амато сознались в содеянном и были публично казнены. Для прояснения повествования уместной представляется ремарка о том, что предоставивший Амато за символическую плату арбалет и стрелы его лучший друг детства Гуидо Бонелло был тайным осведомителем маркграфа Фридриха Эттингена. Впрочем, это совсем не моя интрига. Я всего лишь придерживался хронологии изложения анонимным автором XIV-го века всей этой истории, которую я пересказал средствами современного языка.
1. Курфюрст Георг фон Мальтцан был одним из князей-выборщиков, голосами которых выбирался император Священной Римской империи.
КОНЕЦ АРНОЛЬДА ДЕ ВИЛАНОВА
Арнольд де Виланова или Арнольд из Вилановы (1235—1240, Виланова – 1311, Валенсия) – известный испанский врач и алхимик, один из первых исследователей и практиков в области ятрохимии. Много путешествовал по Европе и Северной Африке, занимался врачебной практикой и разносторонней научной деятельностью. В Монпелье был учителем Раймонда Луллия, оказал существенное влияние на европейских врачей и алхимиков позднего Средневековья и Ренессанса. В последние годы жизни Арнольд де Виланова занимал должность придворного врача у ряда европейских монархов.
В самом конце августа 1311-го года Арнольда срочно вызвали в резиденцию папы в Авиньоне в связи с крайне тяжелым состоянием Климента V. По официальной исторической версии Арнольд де Виланова погиб 6 сентября 1311-го года в результате кораблекрушения у берегов Испании.
Совсем недавно в подземелье одного из древних испанских монастырей случайным образом обнаружили скрытое до этого времени небольшое помещение. Материальных ценностей в комнате не нашли, зато в ней оказалось множество представляющих огромный интерес для историков неплохо сохранившихся рукописных текстов. Среди них оказалась одна любопытная рукопись, принадлежащая перу некоего испанского священника отца Боливара. Как следует из текста, это информация из предсмертной исповеди отцу Боливару одного уцелевшего после гонений 1307-го года тамплиера. Видимо, сказанное исповедующимся показалось отцу Боливару настолько важным и интересным, что он решил нарушить тайну исповеди и записать услышанное. Впрочем, имя исповедовавшегося тамплиера он все же не упоминает в рукописи, называя его «брат Х». Вкратце изложенные в тексте события выглядят следующим образом.
Братству стало известно, что знаменитый знахарь, открывший тайну эликсира жизни, направляется в Авиньон, чтобы посредством его спасти грешную жизнь Климента V, несправедливо обвинившего орден в ереси и богопротивных деяниях. Конечно, убийство его святейшества представлялось остаткам ордена тамплиеров, сбежавшим в Испанию, преступлением перед христианским миром. Но и вмешательства в промысел Господа, решившего, по всей видимости, забрать запутавшегося сына, они допустить не могли. Поскольку тамплиеры не сумели достичь своих целей на суше, брат Х пробрался на корабль, на котором лекарь отбывал в Авиньон.
На следующий день после отплытия брат Х ворвался в каюту знахаря и убил его, вонзив в грудь кинжал. Он разбил и все склянки с целебными жидкостями в багаже медика. При этом брат Х был схвачен и закрыт в трюме. А вскоре начался шторм. В какой-то момент он ощутил чудовищный удар, который принял на себя корпус судна. Что произошло снаружи, брат Х тогда естественным образом, конечно, не понял. Встряска отбросила подпиравший люк в трюм тяжелый груз далеко в сторону, и тамплиер выбрался наружу. Была ночь, корабль тонул. Видимо кораблекрушение произошло недалеко от испанских берегов, потому что следующим днем выбившегося из сил брата Х, державшегося за внушительных размеров деревянный обломок, спас испанский рыбак.
Имя «Арнольд де Виланова» в рукописи не упоминается. Скорее всего не называл его и брат Х. Очень может быть, что он его и не знал или забыл с течением времени. Но все же из контекста описанных событий можно сделать вероятный вывод, что знахарем в этой истории был именно он. Как хорошо известно, в этот раз надежды тамплиеров на смерть папы не оправдались. Климент V выкарабкался и без помощи лекарственных средств Арнольда из Вилановы. Всевышний даровал его святейшеству еще несколько лет жизни, и в этом смысле брат Х совершенно напрасно взял на душу грех убийства.
ЕЩЕ РАЗ О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ
Наверно почти каждому известно имя Вильгельма Телля и содержание связанной с ним легенды. Я тем не менее все же напомню вкратце сюжет этой знаменитой истории.
Швейцария, XIV век. Кантон Ури с центром в городе Альтдорфе, где и развернулись события истории, был одним из регионов Швейцарии, управляемых австрийским императорским домом Габсбургов. Поставленный им наместник (фогт) Генрих или Герман Гесслер установил на центральной площади Альтдорфа столб со своей украшенной перьями шляпой на верхушке, которой должны были кланяться все идущие мимо. Этого по забывчивости или из-за гордости не сделал проходивший рядом со столбом вместе со своим сыном охотник и меткий стрелок Вильгельм Телль. Увидевшие столь вопиющий знак неуважения к власти стражники арестовали Вильгельма и вместе с сыном доставили к наместнику. Гесслер предложил Теллю умереть или сбить яблоко стрелой с головы своего сына. Вильгельм Телль легко поражает цель на голове сына, но свидетели замечают, что он перед выстрелом вытащил из колчана две стрелы. Телль сознается, что вторая в случае неудачного выстрела предназначалась для фогта. Наместник отправляет Телля в тюрьму, но по дороге тому удается бежать. На горной дороге Вильгельм Телль подстерегает Гесслера и метким выстрелом убивает австрийского ставленника. Узнав об этом, швейцарский народ трех соседних кантонов Ури, Швица и Унтервальдена поднимает восстание и вскоре изгоняет австрийцев, а Вильгельм Телль становится национальным героем и символом свободы Швейцарии.
Первое письменное изложение истории о Вильгельме Телле (где он именуется как Вильгельм Талль) встречается в «Белой книги Зарнена» городского писаря Ганса Шрибера – манускрипте второй половины XV века. Следующее упоминание о Телле содержится уже в печатном издании 1507-го года «Люцернские хроники». Затем специальным сбором всех сведений о Вильгельме Телле занялся Эгидиус Чуди, результаты которого содержатся в «Хрониках Гельвеции», опубликованных в первой половине XVIII века. Широкую известность легенда получила благодаря блестящей драме Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль».
Долгое время (прежде всего в связи с упоминанием в летописи XV века) Вильгельм Телль считался историческим лицом. В современности эта версия оспаривается на основании следующих аргументов. Во-первых, красивая история явно носит мифологические черты. Так немецкий ученый Эрнст-Людвиг Рохгольц усматривает в сказаниях о метком стрелке аллегорическую борьбу зимы и лета с безусловной победой последнего. Не случайно он взял эпиграфом к своей книге слова средневекового писателя Конрада фон Аменгаузена «я расскажу тебе хорошую сказку, как прогнали мы зиму». Во-вторых, историки и литературоведы попытались поискать аналогичные сюжеты в различные исторические периоды у других народов. Оказалось, что сюжет далеко не уникален. Наконец, в-третьих, тексты, в которых упоминается Вильгельм Телль (Талль), написаны фактически через полтора века после описываемых событий, документальные сведения о проживании героя в контоне Ури на рубеже XIII – XIV вв отсутствуют, а свободу от чужеземного влияния Швейцария обретает лишь в XV века.
Со справедливостью приведенных аргументов трудно не согласиться. Однако совсем недавно открылись обстоятельства, при рассмотрении которых не только обнаруживается источник мифологизированной истории о Вильгельме Телле, но и появляется основание утверждать, что, очень возможно, наш меткий стрелок персонаж все же исторический.
Дело в том, что французский историк-медиевист Жорж Дюбуа совершенно случайно получил доступ к ранее не известной науке летописи контона Ури XIV века. Один из его хороших знакомых – богатый коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, приобрел в свое время у коллеги по интересам старинный манускрипт. Ему очень хотелось узнать содержание приобретенного текста. А потому он, зная о профессиональной компетентности Дюбуа, попросил его ознакомиться с содержанием рукописи в своей частной библиотеке.
Манускрипт содержал много любопытного для историков материала, но для нашего повествования интересно то, что в ней были сведения, касающиеся Вильгельма Телля и его сына. Там они упоминаются как Вильям Талль и Микаэль. Говорится, что Вильям Талль был охотником и метким стрелком из лука и арбалета. Нередко Вильям со своим непутевым сыном-подростком Микаэлем в целях заработка устраивали на центральной площади Альтдорфа зрелищный аттракцион. Вильям устанавливал на голове сына яблоко и сбивал его стрелой из арбалета или лука. Смотрящие с удовольствием платили за захватывающее дух зрелище. Правда, в момент выстрела Микаэль прикрывал лицо и часть туловища небольшим металлическим щитом, вполне надежно защищающим его от легких стрел, которыми стрелял отец. Однажды после одного из представлений Микаэль умудрился украсть у торговцев провиантом поддон с колбасой и был уличен в воровстве. Как раз во время скандала на площади появился наместник Хесслер в сопровождении свиты. Узнав, в чем дело, он, желая утихомирить толпу, предложил Вильяму еще раз продемонстрировать свое искусство. Но на этот раз для сатисфакции недовольных наместник решил, что Микаэль должен быть без щита. Зная репутацию Талля как искусного стрелка, Хесслер был уверен в успешном результате. Но что-то пошло не так, у Вильяма дрогнула рука и стрела вонзилась в правый глаз Микаэля. Буквально через минуту сын Вильяма Талля умер, а наместник был вынужден отправить лучника в тюрьму за убийство. По дороге Вильяму Таллю удалось сбежать от конвоиров, а через несколько дней он выпущенной из арбалета стрелой убивает Хесслера. События датируются 1307 годом от Рождества Христова.
КОНФУЦИЙ И ЛАО-ЦЗЫ
Как-то раз во время очередной встречи в МГУ в начале 90-х годов прошлого века мой знакомый китайский историк Вэй Пань рассказал мне короткую историю-легенду встречи двух великих мыслителей своего времени – Конфуция и Лао-цзы. Вот она.
Однажды в одной из китайских провинций встретились два знаменитых учителя – Лао и Кун. Бывший хранитель императорского архива и библиотекарь Лао-цзы направлялся на запад страны, а Кун-цзы, давно подавший в отставку чиновник, путешествовал по Китаю с группой учеников, из рассказов которых, собственно, и известна эта история. Они встретились совершенно случайно, разговорившись у одного из прилавков продуктового рынка, куда привели странствующих поиски провизии. Знакомство вызвало обоюдную радость у слышавших ранее друг о друге мудрецов. В преддверии долгой беседы Кун-цзы предложил накрыть стол по поводу знаменательной встречи. Лао-цзы совсем не возражал, но в выборе меню у новых знакомых возникли серьезные разногласия. Если безоговорочный выбор Кун-цзы пал на баранину и рисовое вино, то Лао-цзы непреклонно настаивал на рыбе и вине виноградном. В запальчивости Кун-цзы сказал, что рыба совершенно несытная еда, а от слабого виноградного вина лишь пучит живот. Не менее возбужденно Лао-цзы парировал, что баранина слишком тяжелая пища для желудка, а от рисового вина болит голова. Консенсус все же был найден и на столе оказались и жареная баранина, и жареная рыба, и оба вида напитков. Отварной рис на гарнир окончательно примирил распалившихся было философов.
Под вечер после трапезы ученые мужи отправились в небольшой сад, чтобы в уютной беседке за чашкой чая поведать друг другу основы своих философских измышлений. Они сели за маленький стол и началась тихая беседа. Ученики расположились на скамейке поодаль и внимательно слушали мудрецов, время от времени подливая чай в пустеющие чашки философов. По словам учеников Кун-цзы, давешний спор о гастрономических предпочтениях был, пожалуй, первым и последним спором мыслителей. Философская беседа состояла из обоюдных монологов на предмет собственного интереса. Каждый пытался донести свои идеи и мысли до визави, но говорили они на разных «языках мудрости». Один из учеников Конфуция, склонный к поэзии, вспоминая об этом долгом философском разговоре, написал следующие строки:
Тиха беседки речь…
Сидят они давно…
В саду Великих рос
Ночной порой
Приятен чая аромат.
Уже утром, прощаясь, мудрецы все же не преминули обменяться легкими уколами. Кун-цзы сказал Лао-цзы, что вряд ли чего-то можно добиться, исповедуя принцип бездействия. На что Лао-цзы посоветовал Кун-цзы оставить свое высокомерие, различные планы и стремления, поскольку все это не имеет никакой цены для его собственного я. На этом философы разошлись в разные стороны. Однако эта единственная встреча мудрецов оказала плодотворное влияние на обоих. Вскоре Кун-цзы, вдохновленный изящно-темной диалектикой Лао-цзы, написал лаконично-афористичные «Десять крыльев» к И-Дзин («Книга перемен»), а Лао-цзы, постаравшийся как можно более систематично передать свои идеи собеседнику, написал свой знаменитый «Дао Дэ Дзин».
ПОЕДИНОК
В 1189-ом году папами Григорием VIII и Климентом III (после смерти предшественника) был инициирован третий крестовый поход. В нем приняли участие германский император Фридрих I Барбаросса, король Франции Филлип II Август, австрийский герцог Леопольд V Бабенберг и английский король Ричард I Львиное сердце.
Два рыцаря Бриан де Россе и Мишель де Боже из северных земель Франции, двигаясь в юго-восточном направлении, чтобы присоединиться к войскам своего короля, встретились на постое в деревенском местечке Йонна. Их встреча на постоялом дворе была определена лишь временем прибытия в деревушку, ибо в Йонне он был один. Разместив людей и лошадей, господа решили пообедать за большим столом прямо на улице, поскольку был самый разгар лета (1190г.).
За столом рыцари познакомились поближе. Между разговорами о славе предков и военном походе христианского мира против мусульман они много ели и пили за здоровье короля и будущие победы над сарацинами. Им прислуживала молодая привлекательная крестьянка Мария. Трапеза затянулась. И хотя новоиспеченные приятели уже прекратили есть, пить они продолжали. В какой-то момент изрядно нагрузившийся вином Бриан де Россе начал позволять себе вольности по отношению к Марии. Он пытался пьяно облобызать простолюдинку и, не скрывая похоти, насильно усаживал ее к себе на колени. Это вызвало негативную реакцию девушки, которая изо всех сил отбивалась и даже дала пощечину опьяневшему кавалеру. Непристойное поведение де Россе вызвало негодование Мишеля де Боже, который высказал приятелю, что рыцарю не пристало так вести себя с женщиной, даже если она простая крестьянка. В ответ Бриан де Россе бросил, что не ему учить его манерам. Мишель де Боже парировал, что, конечно, не является учителем этики, но может поучить кое-чему другому. В ярости Бриан предложил начать урок завтра в десять утра. Заканчивая вечеринку, Мишель ответил согласием.
Утром взбодрившиеся колодезной водой и чаркой вина рыцари начали поединок. В соревновании на копьях была ничья, они разлетелись при ударах о щиты. Настала пора мечей. Всадники мчались навстречу друг другу. Приближаясь к противнику, Мишель выхватил меч. То же самое пытался сделать и Бриан, но только ничего не получалось. Меч как влитой сидел в ножнах. Опасаясь обвинений в трусости, Бриан де Россе продолжал движение в сторону противника. Будучи человеком благородным, Мишель де Боже, поравнявшись с всадником, конечно, не нанес ему удара, но лишь хлопнул плашмя мечом по крупу коня. При этом конь Бриана встал на дыбы и сбросил своего хозяина на землю.
Посрамленный Бриан де Россе получил к тому же множественные ушибы. Как впоследствие оказалось, кто-то сумел залить, скорее всего еще с вечера, в ножны его меча загустевший мед. Виновных в досадном инциденте рыцарь так и не нашел, потенциальных подозреваемых – Марии и ее дружка Жака, подрабатывающего на местной пасеке, в Йонне простыл и след. Еще один день Бриан де Россе отдавал дань Бахусу, а потом примирился с Мишелем де Боже, и рыцари вместе отправились на подвиги в землю обетованную.
О ДВУХ КАББАЛИСТАХ
Во второй половине XIII-го века жил в городе Акра – последнем оплоте завоеванного крестоносцами Иерусалимского королевства – иудей Исаак бен-Самуил. Он был палестинским раввином и каббалистом, учеником Моше бен Нахмана (Нахманида) ¹. Кроме изучения и комментирования иудейских текстов Исаак бен-Самуил, по свидетельствам Азулая², с помощью специальных кабалистических упражнений вступал в связь с ангелами. По-видимому, основой служили тексты Сефер-Йециры, но конкретная методика и сами магические заклинания остались неизвестными. Посредством магической каббалы Исаак пытался выведать у ангелов самые различные тайны.