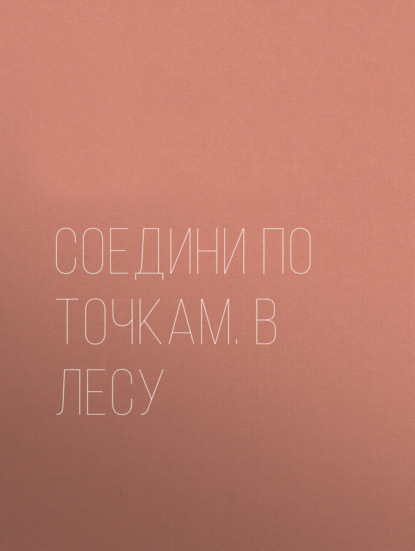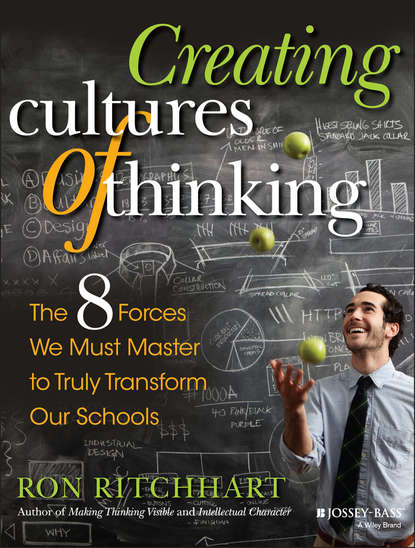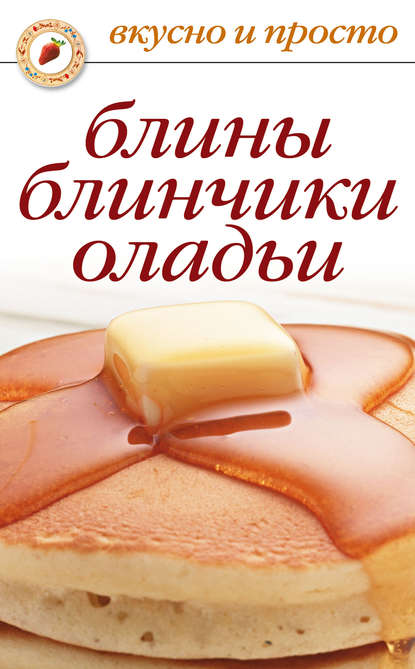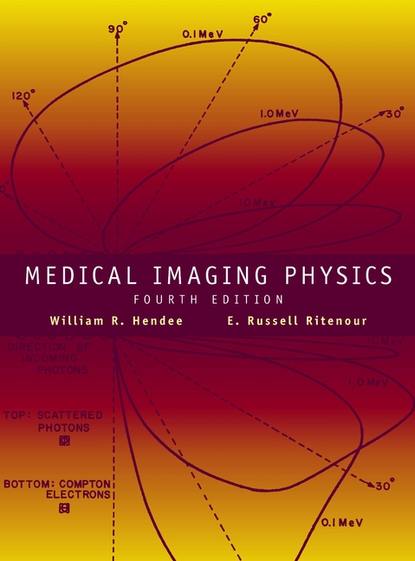Хроники Третьей Мировой войны, которой не произошло
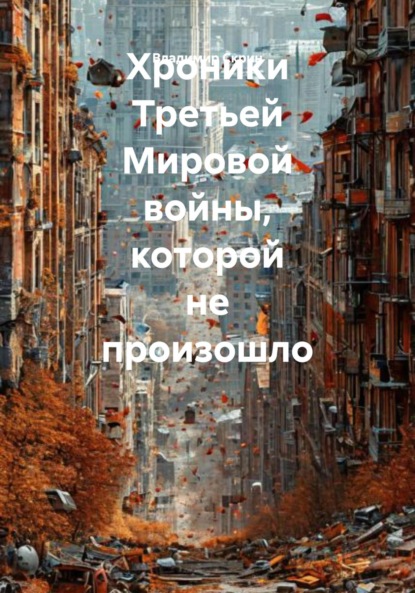
- -
- 100%
- +
На последнем заседании Секретариата ЦК были приняты решения по нескольким долгосрочным мероприятиям по подготовке к Олимпиаде, пропаганде советского образа жизни, демонстрации достижений социализма в нашей стране. Выполнение этих программ будет иметь большое внешнеполитическое значение, укрепит наши связи со странами социалистического лагеря, позволит увеличить количество сторонников некапиталистического пути развития в остальном мире.
Но не меньшее значение Олимпиада имеет и для нашей внутренней политики, пропаганде идей партии и укрепления ее руководящей роли. Агитационный эффект Олимпиады будет иметь большое значение только при ее широком освещении в прессе, радио и телевидении. Однако большая часть территории СССР не имеет до сих пор возможности приема телевизионного сигнала. -
При этих словах Михаил Федосеевич насторожился. Спутники связи «Молния» для вещания на крупные города Сибири и Дальнего Востока делались его предприятием. Конечно, возможности ретрансляции на необозримые пространства азиатской части СССР были ограниченными. Куда более перспективными были системы прямого телевизионного вещания через суточные спутники; с точки зрения наземного наблюдателя источник телевизионного сигнала покоился в фиксированной точке небесной сферы. КБ Прикладной Механики и смежники работали над реализацией концепции прямого телевещания: замах был на тяжелый Спутник Непосредственного Телевизионного Вещания с четырьмя мощными телепередатчиками и ядерной энергетической установкой для их питания.
В прошлом году проект был редуцирован, чтобы обойтись существующими солнечными батареями, и успехи были очевидными. Специалисты РадиоНИИ уже монтировали наземную часть.. Что же получается, обстановка опять изменилась?
Тем временем Иван Дмитриевич с нажимом продолжал: -
– Партия ставит задачу обеспечения круглосуточного вещания на всю территорию СССР. Открытие Олимпиады произойдет 19 июля 1980 года. К этой дате более 95% населения должны иметь возможность приема программ Центрального телевидения в цветном изображении. И не одной лишь Первой, как сейчас, но и как минимум еще одной, а лучше трех.
Я кончил. ЦК просит всех вас высказать мнение по организационным и техническим мероприятиям для решения этой задачи. Все ресурсы страны будут предоставлены в ваше распоряжение, чтобы с максимальной эффективностью обеспечить выполнение заданий партии. -
Сорбич сел на свое место, его поза выражала утомление от повседневного решения государственных проблем. Он действительно чувствовал себя усталым – ситуация наконец предоставила ему шанс реализовать давно вынашиваемые планы. Без совещания именно в этом составе, собрать которое ему стоило действительно больших трудов, все эти планы было только прожектами. Сейчас или очень не скоро. Терпение.
Смирницкий встал. -
– Товарищи, Иван Дмитриевич уже обрисовал вам общую картину. Прошу всех высказываться. –
– В принципе, с нашей стороны ничего невозможного нет два года назад работы по СНТВ – были заморожены, но уже на этапе технического проекта, – отозвался Решетников. – Вопрос к ИИП и системе автоматического управления– если впишутся в параметры ТЗ, то попробуем втиснуться в график отработки…Особенно САУ – это вся энергетика изделия.
Анатолий Петрович Алексанов – директор Института Измерительных приборов, того самого, который вместе с рядом других организаций и разрабатывал энергоустановку для СНТВ, высказываться не очень-то хотел. Он понимал подоплеку происходящего – в прошлом году его Институт был удален из программы СНТВ с мотивировкой «недостаточной отработанности и необходимости пеереориентации на другого заказчика», таковой нашелся там же, на фирме Решетникова. Но теперь, как выяснилось, СНТВ опять становится приоритетной задачей, а Институт Измерительных приборов оказался не готов. Естественно, «для выполнения важнейшего поручения партии и правительства» придется искать нового исполнителя. По странной случайности директора единственной организации-конкурента звали Виктор Иванович Сорбич.
Но Президент Академии Наук СССР А.П.Алексанов не мог позволить себе быть обидчивым или завистливым. Он должен был говорить правду, какой бы невыгодной для его Института она ни была.
Академик встал во весь свой немалый рост. Четыре оставшихся на абсолютно лысой голове длинных седых волоса свесились с остроконечной макушки, среди своих его за глаза называли Фантомасом. Щеки его ввалились, костюм висел как на вешалке (колодка Звезд заметно оттягивала пиджак) – он совсем недавно перенес тяжелую операцию. Глубоко посаженные глаза смотрели внимательно и строго.
Иван Дмитриевич Сорбич насторожился – именно сейчас должны были прозвучать те слова, ради которых он сидел уже третий день в кабинете по шестнадцать часов, отлучаясь в свою квартиру на площади Победы только на короткий сон.
– Все присутствующие знают, что в СССР завершается разработка двух новых установок космического назначения – «Сапфир» и «Амур». Над ними работают две разные кооперации предприятий. Авторы «Сапфира» – КБ «Заря» и Атомно-Энергетический Институт – делает многие вещи сама, организация исследований и испытаний у них очень простая и эффективная. Они дольше занимаются проблемой, имеют долголетний опыт сотрудничества с фирмой Анатолия Ивановича Савиных по изделию «Кедр».
Однако в такой организации есть и свои минусы – нельзя быть сильными во всем. Поэтому Главный конструктор – Центральное механическое КБ, наш Институт Измерительных Приборов, как научный руководитель, тесно взаимодействует с известными вам предприятиями в Подольске, Ленинграде и Таллине. Мы сознаем все трудности такого подхода, но ориентируемся на организацию индустриального мелкосерийного производства с помощью лучших сил в стране. -
Сорбич с удовлетворением вздохнул. Все пока развивалось в задуманный момент и по рассчитанному сценарию – Министр обороны и член Политбюро Сатинов не смог присутствовать на совещании и повлиять на результат. Теперь Алексанов сам решит его задачу.
Тот продолжил:
– В то же время вы сознаете все величие задачи и ответственность перед партией и страной. Бортовая атомная электростанция «Амур», впрочем, как и «Сапфир», основывается на применении самых новейших технологий. Вы все помните, что год назад «Амур» не был допущен к межведомственным испытаниям, и было принято решение использовать эту установку для серии оборонных изделий «Курьер» со сдачей в 1982 году. Мы в кооперации пересмотрели наши планы с учетом этих директив, и пока все развивается согласно графику. Но это – 1982 год.
Короче – Институт Измерительных приборов с кооперацией не может гарантировать поставку летного образца «Амура» к началу 1980 года. Может быть, и есть смысл предусмотреть в качестве запасного варианта применение «Сапфира», который предназначался на смену «Кедру», тем более что Савиных в ближайшие два года не предусматривает увеличения потребления – модернизация будет проводиться за счет математики и электроники. –
Анатолий Петрович сел.
В ту же секунду Иван Дмитриевич Сорбич закрыл глаза и отключился от происходящего. Вот оно и свершилось – дорога открыта, остались только незначительные технические проблемы. Их решит его аппарат, а потом все будет как надо – постановление ЦК и Совмина, финансы и возможности. Максимум три года, и большинство его личных целей будет, наконец, достигнуто! Если бы кто-нибудь спросил Ивана Дмитриевича – а чего еще, собственно, надо человеку с таким немыслимым положением – то получил бы обескураживающий ответ – стабильности и покоя. На долгие годы.
Сорбич был переведен в аппарат ЦК из Барнаула в начале сороковых. Его выдающиеся успехи по налаживанию производства боеприпасов (это в военные-то годы!) были замечены в Государственном Комитете Обороны. Решение не вызвало у него энтузиазма (его мнением, по правде говоря, никто не поинтересовался), но потом он осознал все те возможности, которые давал скромный стол в кабинете на Старой площади. Карьера Ивана Дмитриевича не была быстрой, но даже скромная должность помогла его семье практически не ощущать военного и послевоенного голода и дефицита.
Все резко изменилось осенью пятьдесят третьего – после свержения Лаврентия Павловича Берии. Хрущев выстроил систему, при которой ни один сколько-нибудь высокопоставленный начальник не мог ощущать себя в полной безопасности, а новые Сталин или Берия не могли появиться в принципе. Вес всех постов в центральных органах партии начал быстро расти. Вначале через Сорбича проходили все назначения на предприятиях машиностроения. В 1964 году Иван Дмитриевич правильно сориентировался, не без его участия система Хрущева прикончила самого Никиту Сергеевича, и новое руководство КПСС оценило это – он получил куда более ответственный и важный пост. Теперь без Сорбича не обходилось не одно кадровое решение в организациях военно-промышленного комплекса, потом – планы, потом – и фонды, которые при социалистической экономике стоили куда дороже денег – без фондов деньги были ничем; потом – закупки по импорту. Фактически его отдел был верховным главнокомандующим для руководителей всех предприятий оборонной промышленности – партийная ответственность была куда более серьезной, чем ведомственная; иными словами, он контролировал более чем шестьдесят процентов всего научно-технического потенциала страны. Зампредсовмина и член ЦК Смирницкий, занимая куда более высокий пост в государстве, на самом деле, был обязан находить возможность выполнения его, Ивана Сорбича, решений и отвечать за это. Это положение не добавляло популярности Ивану Дмитриевичу, но его это не трогало – имея поддержку генерального секретаря и главного идеолога партии, он был обязан реагировать только на их повеления. Мнения остальных, включая Председателя Совета Министров, его, в общем, не интересовали.
Но Сорбич был реалистом. Генсек последние годы тяжело болел, если (когда), не дай Бог, что случится – свою позицию (плевать на всех) сохранить не удастся. И никакой Солодов не поможет – главный идеолог партии также сильно нездоров, да и Генсеком ему точно не быть. Так что о себе- любимом следовало позаботиться заранее. Тем более, что он видел значительно лучше и больше, чем девяносто девять процентов всех членов партии, иллюзий касательно «коммунистического завтра» не питал, а скорость исчезновения народных денег в бездонной бочке «самой передовой в мире идеологии» просто приводила в ужас.
К счастью, пост позволял Ивану Дмитриевичу не только приспосабливать, но и формировать государственные программы с учетом собственных интересов. В конце шестидесятых он активно поддержал казавшийся абсолютно неосуществимым проект системы активного спутникового наведения противокорабельных ракет. Его сын Виктор тогда был молодым инженером, внедрение его в эту дерзновенную программу как одного из ведущих по атомной электростанции «Кедр» помогло быстрой карьере и дало хороший первоначальный импульс для дальнейшего роста. Однако получилось совсем не все, что ожидалось. Героя Социалистического Труда дали одному Савиных, все остальные получили те или иные премии, Виктор получил докторскую по совокупности работ, а после ухода Бондаренко стал Главным конструктором «Зари». И только.
Этого было мало.
Сорбич знал, что Советско-партийная система не давала ни одному человеку уверенности в завтрашнем дне, за исключением действующих министров и профессорско-преподавательского состава. Себя он мысленно включил в последние – в конце концов, его с удовольствием возьмет на работу любой ВУЗ страны в любой момент без особых потерь в доходах. Но Виктор должен стать Министром до этого. Это не просто – Заславский своего поста сам не оставит а если бы и захотел или убедили, то при нормальном ходе событий претендентов не счесть. С Общемашем особенно не повоюешь – это ракетный щит страны. Еще хуже А.П.Алексанов – мало того, что Президент АН СССР, так еще и член ЦК – вроде бы и начальство – сам Иван Дмитриевич только кандидат, хотя АП в партии без году неделя! На помощь генсека в этом вопросе надеяться было нельзя – он и вообще был склонен к компромиссам, а уж создателя атомного подводного флота он ни под каким видом не тронет.
Но теперь есть шанс, сетевой график, подготовленный Виктором в ноябре, это наглядно доказывал. Да, фирма Сорбича-младшего конструировала большинство ядерных установок специального назначения, но, тем не менее, особенно заметной не была – секретность и все такое. Но только сейчас возникла уникальная возможность – поработать не на абстрактных военных, а на идеологов ЦК КПСС под руководством непреклонного Михаила Андреевича Солодова, не менявшего пальто годами, всегда носившего калоши для экономии обуви, и не терпевшего любого отклонения от идеалов коммунизма. За выполнение таких поручений будет все, что пожелаешь, включая всесоюзную известность. Логическая цепочка выстраивается очевидным образом – идеологическая необходимость – Постановление ЦК и Совмина, КБ Виктора как признанный мировой и отечественный лидер в тандеме с Атомно-Энергетическим институтом решает важнейшую задачу партии, а сам Виктор получает очень приличный капитал для академического звания и почти точно выдвигается в ЦК этой самой партии на следующем Съезде в 1981 году. Без членства в ЦК о министерском посте думать нечего…. А теперь никто не пикнет: выполнение задания Политбюро ЦК КПСС и лично товарища Солодова.
Эта заключающая мысль переключила внимание на происходящее здесь, в этом кабинете. Сказывалась и длительная аппаратная практика – как интуитивно найти самый нужный момент для того, чтобы перехватить инициативу у Смирницкого. Надо же показать, кто на самом деле в доме хозяин.
– Товарищи, спасибо за плодотворное обсуждение. Мы внимательно фиксировали ваши мнения. В Постановлении ЦК и Совмина будут определены задачи министерств и ваших предприятий как ответственных исполнителей. Вопросы?
Как всегда, вопросов после заключительного слова не полагалось. Сорбич встал.
– До свидания. Центральный Комитет надеется на вас.
Заместитель председателя Совмина Смирницкий с трудом сдерживался. Сам факт какого-то спонтанного решения секретариата ЦК был непонятен – на фирме Решетникова создание «редуцированного СНТВ» шло совершенно стандартным путем, в 78-м они начнут летно-конструкторские испытания, и вдруг – на тебе пожалуйста! – реанимирован тот первоначальный проект. Ясное дело, кто инициатор – Иван Дмитриевич Сорбич, торжество на надменной физиономии написано. Весь спектакль с отвлечением весьма важных и занятых людей был затеян именно для того, чтобы великий А.П.Алексанов произнес слова о потенциальной неготовности «Амура» для Решетникова к сроку начала Олимпийских игр. Хорошо бы вспомнить, что сама эта «неготовность» была следствием волевого решения двухлетней давности о доработке и дополнительных испытаниях «Амура»… А сейчас Виктор Иванович Сорбич выступит в роли «спасителя отечества» и соберет все, что только можно, для решения очередной «важной идеологической задачи», ну и все полагающиеся лавры впридачу. Более того, забудется тот факт, что один из упомянутых выше «Кедров» фирмы Сорбича сейчас болтается вокруг Земли куском радиоактивного железа и брякнется через месяц-полтора куда-то на североамериканский континент – об этом еще раз говорилось сегодня рано утром, когда Алексанов представлял оценку последствий падения. Баллистики уже рассчитали коридор, к счастью, это должен быть необитаемый север Канады, и это единственное, что было хорошо…. Но почему А.П. не боролся? Может быть, дело плохо в принципе?
Сам АП в это время набирал пятизначный номер, глядя из окна своего черного хромированного броневика 2200 МОС, по внешнему виду не отличавшегося от серийной «Чайки» ГАЗ-13. Автомобиль плыл по брусчатке Кремля.
Институт Измерительных приборов, 12:30 того же дня
Николай Николаевич Звонарев в клетчатом жилете поверх синей рубашки без галстука сидел за приставным столом для совещаний в собственном большом кабинете. Конец года, день расписан по минутам, тем более что предыдущие сутки вылетели напрочь – его отдел в лихорадочном темпе готовил Анатолию Петровичу записку для какого-то совещания в верхах; предметом была оценка последствий падения ядерной энергоустановки на борту спутника – энерговыделение, выход активности, примерная стоимость ликвидации последствий… Люди ждали в приемной, он чувствовал их раздражение сквозь двойную звукоизолирующую дверь. Но выхода не было – такие события были оборотной стороной его руководящей позиции, и надо было принимать их как должное..
Напротив него сидела Нина Михайловна Трубникова – и.о. начальника Первого Отдела. Нина Михайловна лила слезы. Белый халат – традиционная униформа – покрылся мокрыми пятнами, неприятно выделяющимися на отглаженной материи.
Докладная Нины Михайловны лежала перед Звонаревым на столе. НН был обязан выслушать всю печальную историю до конца.
Нина Михайловна повествовала о совершенно скандальном и неслыханном деле. Ее подразделение переехало из старого здания в начале года. При ежегодной проверке выяснилось, что куда-то делись 30 (тридцать!!!) совершенно секретных черновиков. Почему черновиков – листы были списаны с Исполнителей, с каждого листа были сделаны кальки и копии для подшивки в отчеты, отчеты были уже разосланы. Рукописные оригиналы, скорее всего, были сразу уничтожены в специальной печке, их движение, по-видимому, просто забыли отразить во внутренних документах – переезд – почти что маленький пожар....
Однако вышестоящие инстанции это мало волновало. Вина именно Первого отдела и никого более была очевидной. Все понимали, что произошло недоразумение, но факт был совершенно неопровержимым, а наказание в этом случае однозначно определялась соответствующими Инструкциями.
Николай Николаевич смотрел в заплаканные глаза собеседницы. Очки сползли на кончик носа, широкое лицо покраснело и опухло.
Ему было ее по-человечески жаль.
Он помнил Нину Трубникову совсем молоденькой девочкой – тоненькой, с русыми кудряшками. Они пришли в Институт почти одновременно: он – весной 1952 года старшим лаборантом после окончания ВУЗа, она – двумя годами позже, когда разогнали весь бывший НКВД – машинисткой в Первый Отдел. Они уже 25 лет работали на одном этаже, он перемещался только по должностям – старший лаборант, инженер, м.н.с, с.н.с., начлаб, зам. начальника сектора, начальник Отделения, доктор наук, профессор, членкор… Трубникова маленькими шажками двигалась по короткой служебной лестнице Первого Отдела и очень надеялась со временем стать начальником подразделения в Здании. В прошлом году прежнюю бессменную начальницу проводили на пенсию после тридцати лет работы, Нина Михайловна стала «исполняющей обязанности» и ждала официального приказа о назначении. Ее цель была в полушаге, можно было считать, что жизнь удалась.
И вдруг эти долголетние усилия пошли прахом. Окончательно и бесповоротно.
НН еще и еще раз читал принесенную бумагу, не выражая своих эмоций, – просто чтобы как-то занять паузу. Он ощущал себя отвратительно, сочувствовал своей давней соратнице, но как руководитель был обязан поставить свою визу на докладной, после чего дело пойдет по инстанциям и для Нины Михайловны все будет кончено. Лучшее, на что она могла теперь надеяться при полном содействии Божественного Провидения – просто «строгач» с занесением, но с с сохранением партбилета, увольнение с нынешней должности (весьма привилегированной для человека с небольшим образованием) и тихий уход на пенсию.
Ему нечего было сказать. Врать он не был приучен, а помочь ничем было нельзя. Грозный призрак «оргвыводов» из служебного расследования , казалось, уже стучится в дверь кабинета подобно Дон-Жуановскому Командору.
Раздавшийся в тяжелой тишине звонок аппарата «Искры» Звонарев воспринял как Божью милость – это давало паузу и позволяло разрядить ситуацию.
– НН? Это я (спутать этот голос было невозможно ни с каким иным). Слушай, я только что с совещания в верхах – тебя касается. Но я не об этом. Подольск, Питер и Таллин делают все, что могут, а что делает Исаков? Есть ли какие-то идеи? Может быть, и тебе применить опыт Баранова?
Услышав голос А.П., Звонарев, подобно простому релейному автомату, переключился в состояние полной мобилизации. Предыдущая тема сразу же перестала существовать для него, переместившись во вторую или еще какую-то дальнюю очередь.
Николаю Николаевичу еще не было пятидесяти, он был Научным руководителем «Амура» – бортовой атомной электростанции – и ряда других проектов, уважаемым и успешным молодым членкором со 99-процентными шансами на избрание академиком на следующих выборах. Его способности, трудолюбие и личное бесстрашие признавались окружающими, он стал руководителем не на пустом месте и не по партийному признаку. Но в общении с А.П. все эти достоинства стоили очень мало – Анатолий Петрович был Корифеем и Основоположником Великой Атомной Эпохи. РДС-1, Первая АЭС, Первая (и все последующие) атомные подводные лодки и ледоколы, Первые… Таких людей оставалось в живых не более десятка, и каждый из них был, несомненно, совершенно выдающейся личностью.
Феноменальная сообразительность и долгая память А.П. пользовались поистину фольклорной известностью. Так что реагировать надо было быстро, коротко, по-существу, но при этом оставляя себе пространство для маневра, точно так, как на экзамене в студенческие годы.
Звонарев, конечно, сразу понял, что речь идет о Решетникове и его коллеге из Куйбышева – статьи в «Авиации и космонавтике» выходили именно под этими псевдонимами, но где они, и где Институт? Однако «жираф большой, ему видней».
– Анатолий Петрович, вы знаете, что у нас на нашем стенде идут испытания. Система Автоматического Управления (САУ) конторы Исакова сейчас эксплуатируется практически в штатном режиме.
– Я о другом. Сейчас готовится Постановление Правительства, может быть, у тебя есть пожелания к Исакову?
Николай Николаевич ожидал этот вопрос уже полминуты. Исаков сам по себе и его сотрудники были талантливыми ребятами, но крепкими орешками, в совершенстве освоившими технологию эксплуатации своего почти монопольного положения. Обычным стилем общения были вежливые аналоги жаргона советских продавщиц – эвфемизмы, означающие «ешьте, что дают», «не нравится – ищите других», «вас много, мы одни». К тому же, они не подчинялись Министру Заславскому, а были под Министерством авиационной промышленности, что давало им известную самостоятельность.
Потерять такого смежника было очень рискованно. Однако не все было гладко, а ранее шанса изменить ситуацию не представлялось. Будь, что будет.
– Анатолий Петрович, мы занимаемся проблемой. У нас есть предложения, но нет продвижений.
– А что так?
– На их стороне – опыт «Ленина», «Кедра», «Ромашки» и «Сапфира», работающая аппаратура, технология; у нас же – одни расчеты.
– Понятно. НН, времени нет, давай сегодня в третьей половине дня встретимся и обсудим ситуацию.
– Хорошо, Анатолий Петрович, где?
– Я к тебе приеду посмотреть. Как там мой шкафчик – еще не отдал?
– Обижаете, Анатолий Петрович, как можно!
– Пока. Физкультпривет!
Николай Николаевич откинулся на стуле.
– Нина Михайловна, мне очень жаль, но я сам ничего не решаю и могу только просить. Сейчас звонил Анатолий Петрович, будет сегодня, так что мне надо готовиться. Я сделаю все, что могу.
– И то слава Богу. Спасибо вам большое заранее. -
Дверь закрылась, докладная осталась на столе.
Николай Николаевич нажал клавишу селектора.
– Николай Евгеньевич? Привет. Слушай, сегодня на объекте будет АП. Ожидается в третьей половине дня, то есть, я думаю, после семи или восьми вечера. Дай указание проконтролировать содержимое его шкафчика, чтобы все было, как положено и подходящего размера – не мне тебя учить. Обязательно будешь сам. Предупреди Гаршина. А.П. будет смотреть стенд, отсек САУ и, вероятно, обсуждать ситуацию с системой. Надо подготовиться.
– НН, у нас все в порядке, все сделаем, но Гаршин был вчера последний день в смене, у него два выходных.
– Ну хорошо, – Звонарев задумался на пару секунд, что-то прикидывая в уме, наконец, решил, – тогда Рогатина, но предупредите, что надо вести себя прилично. Пусть будет наготове.
Вопрос «шкафчика» был связан с обязательным полным переодеванием при входе в «грязную» зону – территорию ограниченного пребывания в зоне радиационной опасности. Исключений из правил не делалось ни для кого. И А.П.Алексанов, и Н.Н. Звонарев имели свои именные шкафы чтобы снять чистую одежду, пройти голышом в «грязную» зону, надеть белый костюм, шапочку и обувь, при необходимости сменить/сдать/добавить соответствующие детекторы радиоактивных излучений; типичный сменный персонаж был увешан ими как новогодняя елка. Но едва ли не более важными были этические традиции Института, сформировавшиеся с самого начала Атомного Проекта, и неукоснительно соблюдавшиеся – все без исключения, невзирая на чины и звания, разделяют риск поровну, проводя равное количество минут в условиях облучения; организуют работу так, чтобы образно говоря, выйти сухими из воды – получить мизерные дозы, когда, на первый взгляд, это невозможно; придирчиво инспектируют друзей, именно друзья смогут найти все ошибки или недочеты, и, найдя, помогут их исправить наилучшим способом, тогда другу никогда не придется подбирать слова утешения для жены (матери) в случае, если муж или сын, работая на объекте, переоблучился и потерял здоровье (не дай Бог!) Конечно, такой подход требовал настоящих знаний, личной стойкости и хладнокровия, кропотливой организации работ и долгих тренировок персонала, но героизм и спешка (под аккомпанемент криков и угроз начальства) считались очень дурным тоном. Что же касается АП, то на дверце второго отделения его шкафчика висела этикетка «Заславский Е.П.» – надо быть готовым ко всему.