Хроники Третьей Мировой войны, которой не произошло
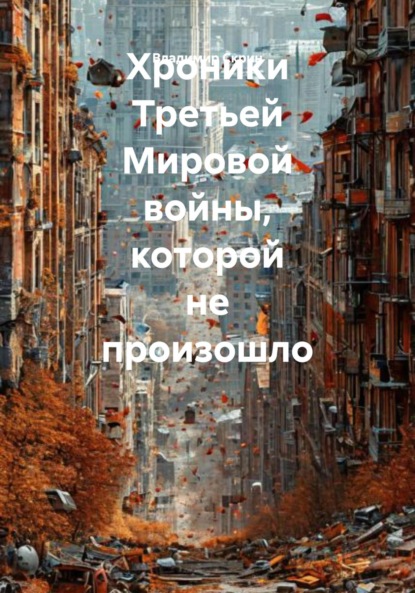
- -
- 100%
- +
Институт Измерительных приборов, примерно в это же время
Александр Иванович Дуров вполуха слушал выступающих на совещании; в голове создавался какой-то общий шум. Он был чрезвычайно сосредоточен и не мог отвлекаться на то, что вообще не понимал и, тем более, на то, что он забудет через месяц-другой.
Надо было срочно и планомерно подчищать хвосты, ликвидировать все долги и изо всех сил стараться не вляпаться в какие-нибудь заморочки. Он в деталях знал печальную историю своей предшественницы Нины Михайловны, но у той был пенсионный возраст и, по правде говоря, терять ей было нечего. У него-то ситуация была совсем другой.
Ему позарез нужно было получить три рекомендации – одну от своего начальника в том подразделении, где он числился – академика Звонарева, от начальника в Институтской структуре – Петра Петровича, и только после этого – от секретаря Партийного комитета Института. Рекомендации были необходимым (но вовсе не достаточным) набором документов для Комиссии МК КПСС.
Дуров понимал, что такой шанс выпадает только раз. Прошло всего четыре недели со времени памятного разговора с женой, в котором та поведала ему о возможных изменениях в его судьбе. Александр воодушевился, немедленно полетел к матери (мать встретила сына сурово, но это ничего – со временем оттает), получил от нее инструкции и начал буквально «рыть землю». Дуров хорошо понимал, что здесь карьеры не сделаешь. Он местами пытался въехать в обстановку на работе, но в меру своего понимания хорошо осознавал – если ты «в круге», то у тебя есть шанс. Если нет – то как ни старайся, ничего не будет. Вот Рогатин, например – лауреат всего, что можно, и что? Как был, так и остался на своем месте. А его приятель Аврааменко, выпихнутый на освобожденную общественную работу за то, что уволить нельзя, и использовать тоже – сейчас уже в райисполкоме, заведует жильем, живет как король! Отсюда надо бежать. В МК (если повезет) горизонты совсем другие!
В здании через дорогу упомянутый выше Рогатин, оторопев, тупо смотрел перед собой. Уже несколько минут он не мог придти в себя, не веря своим глазам – система работала! «Конкорд» жил, реагировал на его команды, принимаемые с клавиатуры, в общем, все было хорошо. Это случилось как-то само собой, он просто сосредоточился и подобрался, словно атлет перед соревнованиями. Работа делалась без напряжения, Валерий твердо понимал, что надо делать в каждую минуту, даже его начальник отстал, и не докучал ненужными делами, командировками и так далее.
Но не только это – все, что он мог сделать по кросс-ассемблеру здесь, в Москве, пошло с первой же попытки! Это вообще не заняло много времени, Рогатин даже бросил на некоторое время рисовать схему, а писал текст просто «с листа», не забывая вставлять комментарии в каждую строку. Особенно стараться было не нужно – располагаемые ресурсы были вполне достаточными. В принципе, он был готов к работе в Городе – большего здесь, в Институте, сделать было нельзя.
Но ожидаемая система автоматического управления до сих пор не появилась. Объяснить этот факт можно было только вмешательством сверхъестественных сил, вызвавших неожиданные и трагические события на фирме-изготовителе.
Смерть, наконец, сжалилась и прекратила мучения гения электроники, возглавлявшего «Площадку Г»– фирму, первоначально возглавлявшуюся Нобелевским лауреатом Густавом Герцем. Валерий при частых командировках с содроганием наблюдал невыносимые страдания директора конторы. Более десяти лет он противостоял тяжелейшему недугу, рассыпавшему человека на части, работая творчески и продуктивно и заряжая энергией и мужеством весь коллектив; другой на его месте просто не покидал бы больничной койки. Лидер ушел – Предприятие осталось без сердца.
Однако «пришла Беда – отворяй ворота».
Главный конструктор САУ был найден мертвым около своего дома. Убийц не нашли.
Что это было – неизвестно до сих пор. Но штатный экземпляр САУ застрял на заводе.
В ИИП приходили торопящие телеграммы, Валерий буквально бегал от заказчиков, поскольку кооперация была кругом виновата. Однако завтра ему предстояло ехать на семинар по своему профилю. В Болшево должна представляться какая-то монструозная программа. – Ну что ж, съездим, если надо.
Валерий шел домой пешком – чудная погода середины апреля заставляла забыть о трудностях бытия. Неповторимый аромат весны, яркий молодой месяц на небе, хруст льда на протаявшем асфальте, больший или меньший порядок дома – все было хорошо.
–Да, САУ, – подумал Валерий. – Ничего страшного, отпишем ее для «Бирюсы» (тогда ему даже не пришло в голову, что за подобную работу обычно просили- и получали – вполне ощутимые деньги).
Подмосковье, на следующий день
Рогатин ехал в пустынной поутру электричке в Подлипки. У него были четкие описания – он знал, куда идти и кого искать. Собственно говоря, Валерий должен был выступать в непривычной для себя роли какого-то рецензента от Института на проект, о котором он услышал впервые. В его голове забрезжили смутные догадки – его просто оставляют без нормального дела, но и не дают уйти. Ну ничего. Надо закончить формальности по диссертации, защититься и – прощай, любимая комната, Институт большой!
В зале совещаний было довольно много народа, человек пять были знакомы, доска была увешана красивыми плакатами.
– Наверное, человек хочет доложиться по установке и заодно обкатать свою диссертацию, – подумал Валерий, предъявляя справку сотруднику Первого отдела, заполнявшему список присутствующих. – Ну что ж, очень хорошо, тем более, что собственная защита уже совсем близко.
Краем уха он услышал, как ученый секретарь (знакомый, где-то встречались), разговаривая с каким-то человеком, вполголоса произнес его фамилию.
– Вот, ты просил, Рогатин, – поймай его после семинара, поговори, он наверняка поможет.
Рогатин вздрогнул. Это был первый раз, когда абсолютно случайный человек отзывался таким образом.
Человек лет на пятнадцать старше был не в своей тарелке от необходимости что-то просить.
– Валерий Владимирович, здравствуйте, я хотел с вами познакомиться, меня зовут – фамилия была очень известной – у нас есть вопросы, которые, как мы надеемся, вы поможете решить. Мы читали ваши работы. Может, вы выделите минут двадцать после семинара?
Валерий ужасно смутился.
– Да что вы, конечно, мне, право, неловко.
– Договорились. Спасибо заранее.
Председательствующий встал со своего места.
– Расчетно-теоретическое обоснование системы управления аппаратом «Зевс», докладчик – Аркадий Моисеевич Гершензон.
Рогатин приготовился увидеть малорослого тщедушного субъекта с горбатым еврейским носом и черными глазами. Внезапно света перед Валерием стало вначале меньше, а сразу после этого – больше по причине того, что со своего места в предыдущем ряду вышел шкафоподобный громила (за его спиной Валерий прятался на время доклада, который он заранее оценил как отбытие очередного номера). Широченные плечи, курчавые белокурые волосы, правильные черты лица делали докладчика похожим на статуи Аполлона Бельведерского. И говорил этот самый Аполлон Моисеевич вполне дельные вещи, слушать было интересно, а сам «Зевс» штукой был весьма нетривиальной.
Внезапно Валерий второй раз за день услышал свою фамилию, причем речь шла как будто об известных всем вещах. «Интегрирование системы осуществляются по методам, предложенным Муринштерном и Рогатиным» – докладчик, не останавливаясь, пошел дальше.
Но и это был не конец.
– Выбор самой траектории оптимизации мы осуществляли по методам типа Рогатина, которые дают в нашем случае особенно хороший результат.
– Ничего себе, – подумал Валерий, – интересно было бы узнать, что это за методы? – Он продолжал слушать. Докладчик, тем временем, перешел к результатам. Взгляд споткнулся – скорее всего, на плакате была описка. Почти все было хорошо, этот самый Аполлон-Гершензон был вполне нормальным мужиком, и ему надо было бы кое-что посоветовать, поскольку со стороны всегда виднее.
– Вопросы?
Таковых не оказалось.
– Выступления?
Валерий встал.
– Собственно, у меня и вопросы и короткое выступление. По методам интегрирования понятно, а вот по выбору траектории. Это что за метод?
Докладчик набычился, намереваясь дать бой невеже. При его габаритах зрелище было устрашающим.
– Известный метод, он появился в отчетах два года назад, основные уравнения – он открыл толстенный переплетенный том. Позволяют обойтись минимумом априорной информации.
Валерий с трудом удержался от смеха, его просто распирало. Очевидно, улыбка все же проступила на лице, потому что раздраженный Аркадий продолжил:
– Это трудно не понять! Вот посмотрите на этот плакат, вот исходные данные, оптимум достигается за минимум шагов. По правде говоря, если бы сразу не догадались использовать этот алгоритм, мы не закончили считать и сейчас. Запросите оригиналы работ, найдете много полезного!, – закончил он с явным презрением к тупости вопрошающего.
– Спасибо, – спокойно сказал Валерий, за время тирады смех удалось подавить. – Но есть еще и замечание. Вот это. – он подошел к предпоследнему плакату. – График нарисован неверно, очевидно, тот, кто строил с листинга, нарисовал просто не то. Перегибов – он ткнул пальцем – здесь быть не может, поскольку собственные числа уравнений значительно больше. Это либо ошибка расчетной схемы, во что мне не верится, либо просто ошибка лаборанта, строившего кривую. Надо переделать, поскольку сразу бросается в глаза. А так – работа просто отличная.
Аркадий Гершензон свертывал плакаты в трубку.
– Слушай, – обратился он к ученому секретарю, – ты будешь писать протокол. Кто этот парень, который выступал? Зараза, быстро соображает! Я проверил, действительно текст придется переделать, плакат тоже – точно ошибка. И видно!
– А ты не знаешь? Это Валера Рогатин из ИИП.
– Правда? Неудобно получилось, а ты-то хорош – чего же сразу не сказал, что сам Рогатин приедет? Я как раз хотел тебя просить, чтобы ты помог его найти – у меня к нему куча вопросов!
– Ищи его в столовой, наверняка с нашими конструкторами сидит, они его быстро не отпустят.
Валерий возвращался домой. Ощущения были неподражаемыми.
– Такое бывает только раз – подумал он.
Москва, в это же время
Михаил Ильич Микульский, старший научный сотрудник Отдела научно-технической информации, сидел за своим столом, перед ним лежала заявка на изобретение – которая уже по счету. Каждый его день начинался с того, что он доставал материал из сейфа, раскладывал его перед собой и … ничего не происходило. Он просто не мог заставить себя заняться чем-нибудь созидательным, а кроме заявки, в плане работ числились выпуски «сигнальной информации» – реферативных сборников по отраслям, организация учеб сотрудников и прочие нужные дела. Но работа не двигалась.
Место, на которое его определил Шереметев после памятного разговора четыре года назад, было чем-то вроде фабрики – оно предполагало повседневную тщательную работу, а к подобного рода деятельности Микульский не привык. И черт же его дернул тогда высунуться с этим проклятым Голицыно! Раньше был сектор, тема, коллектив, который делал работу. Михаил Ильич рецензировал, отчитывался, содействовал в постановке в разные очереди – на мебель, садовые участки, дефицит, и все было хорошо. А теперь? У него начальница – дама лет под шестьдесят, гуманитарий с тремя иностранными языками (правда, без докторской степени) – въедливая и противная, проверяющая сама полноту каждого реферативного сборника (Михаил Ильич, с грехом пополам читавший по-немецки со словарем, каждый раз ощущал свою неполноценность, когда эта начальница сравнивала названия работ, включенных в сборник, со своими записками), на работу приходилось приходить «по звонку» – к 9:00, в случае опоздания писать объяснительные. Да и вообще – единственный мужчина в женском коллективе.
Терпению Михаила Ильича приходил конец примерно раз в квартал, он упорно зондировал почву для перехода в другое место, но там, куда брали, условия были значительно хуже, а куда хотелось – отказывали (Микульский думал, что не без помощи Шереметева, может быть, он был и прав). Надо было что-то придумывать.
Дальний Восток, в это же время
Эскадра торчала здесь уже месяц, каждый день рискуя быть вовлеченной в конфликт, а то и в настоящую войну, а до выполнения задания было все так же далеко. Задание казалось простым – разведка системы ПВО крайней восточной оконечности Советского Союза. На главной базе флота в Коронадо ему разъяснили – Советы затевают что-то в районе Чукотки, АНБ уверено в этом на 100%. Ему же предстояло выяснить, как же советская ПВО будет реагировать на действия противника. В качестве противника выступал он сам и вооруженные силы под его командованием.
Все началось с того, что три авианосные группы в сопровождении бомбардировщиков В-52, АВАКСов, истребителей F-15, подводных лодок и противолодочных самолетов впервые появились в обычных районах патрулирования советского подводного флота.
Реакции никакой.
Неделей позже авианосец «Мидуэй», соблюдая все меры предосторожности, с выключенными радиопередатчиками и всеми электронными сиcтемами, вошел в советские территориальные воды неподалеку от Петропавловска. Адмирал отчетливо понимал – русские могут утопить их с полным на то основанием. Но до начала активных действий они должны были обнаружить свои средства обороны, спутник «Феррет», «Аваксы» и системы ПВО были готовы и дожидались именно такого поворота событий. Адмирал в тот раз собрал командный состав, разъяснил положение и скомандовал – быть готовым к активной обороне всеми наличными средствами, только, упаси Господь, не стрелять по русским, иначе – конец всему.
Но опять никаких последствий, можно было подумать, что русских здесь вообще нет.
Оставался один выход. И именно для этого собирались сейчас лучшие летчики эскадры. Их надо было предупредить, что задание, которое им предстоит выполнять, будет сопряжено со смертельным риском. Ничего, они – офицеры и патриоты, поймут.
Гоголевский бульвар, двумя днями позже
Маршал Свечин читал донесение генерала Лебзяка, командующего Дальневосточным военным округом.
«ХХ апреля две эскадрильи истребителей с авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз» нарушили советское воздушное пространство над островом Зеленый в Курильской гряде. Они проникли более чем на 30 км вглубь советской территории и в течение 15 минут практиковались в заходе на наземные цели».
Маршал снял трубку ВЧ.
– Слушаю, товарищ маршал.
– Донесение читал, ваши действия одобряю. Вы говорили с командующим авиачастью, почему он не поднял самолеты по боевой тревоге?
– Да, говорил. Он ответил, что понял, что это – провокация с разведывательными целями, а при нашем ответе вышел бы еще и крупный вооруженный конфликт.
– Объявляю благодарность вам и войскам округа, и прошу подготовить соответствующий приказ.
– Служу Советскому Союзу!
Подмосковье, днем позже
Валерий ехал в электричке.
– Следующая станция – Чкаловская , – раздался металлический голос в динамике.
Валерий посмотрел на часы – до отлета еще почти час, собрал свой скарб –несколько колод нумерованных перфокарт (для надежности), две бобины магнитной ленты – оригинал и копия для передачи, подборка документации – все в запечатанных мешках, килограммов двадцать. Своего багажа было тоже довольно много – впереди было две недели.
Лететь-таки пришлось. Отговорки неготовностью, билетными трудностями и прочим кончились грозной ВЧ-граммой на имя А.П.Алексанова, в которой требовалось срочно командировать В.В.Рогатина для выполнения работ…….., причем для транспортировки упомянутого Рогатина присылался самолет борт *******
При этом известии Валерий почувствовал, как на плечи упала какая-то тяжесть –он был воистину подавлен. Гордость не распирала его, наоборот, он сильно занервничал, понимая, что в этот раз ошибиться он просто не имеет права.
Рогатин, навьюченный как ишак, подошел к КПП, протянул телекс. Часовой махнул рукой -
– Проходите, стойка 1.
– Рогатин, Валерий Владимирович? Да, есть в листе. Берите вещи и идите к самолету – вон Ту-154 борт *******. Поторопитесь – вылет через двадцать минут.
Валерий, облепленный ранними комарами и взмокший от затаскивания груза по трапу, наконец расположился в кресле, открыл детектив и бутылку пива. Хвостовая часть салона, в которой он и находился, была отделена сплошной перегородкой от носовой части. Кроме него в салоне никого не было, только какие-то ящики на креслах и в проходе. Тем лучше.
Город, примерно в это же время
ПАЗик, поданный на летное поле, доставил Рогатина к гостинице через четыре часа тридцать минут после вылета из Чкаловского. Он и понятия не имел, что приземлится прямо на закрытой территории.
Он посмотрел на часы – прошло шесть часов двадцать пять минут с момента выхода из дома. Средняя скорость – 661 километр в час.
– Этот рекорд превзойти вряд ли удастся, – подумал Валерий и, скорее всего, был прав. Хотя кто знает?
Рогатин и понятия не имел, что его столь экстренная командировка была вызвана причинами, далекими от производственной необходимости. Но результатом ее будут далеко идущие последствия как для него самого, так и для многих людей.
Партийный аппарат не представлял, чего надо ожидать от нового Генерального секретаря. Шефу Виктора Спасского было, о чем беспокоиться – как на этот пост ставят, так с него и снимают, это вам не партийная номенклатура. Необходимо было подготовиться к самым разнообразным вопросам.
И тут помогли старые знакомства. Новый начальник оборонного отдела ЦК также чувствовал себя не очень уютно, но в руках был административный ресурс. В Город ушла грозная бумага о необходимости строжайшего соблюдения графика работ и о готовности, в свою очередь, решить все организационные вопросы. Задержать спецрейс из Москвы на пару дней – не проблема, деньги ведь государственные, их не жаль.
Север Москвы, неделей позже
Здесь тоже шли испытания. И не всегда гладко.
Опыта производства этих летательных аппаратов на территории СССР еще не было, технологию только предстояло создать, в том числе и новые методы контроля качества. Люди просто выбивались из сил.
Это был настоящий аврал. Но сроки срывать было нельзя – корабль должен был стать важнейшим элементом в оборонительной системе страны. О ходе работ периодически докладывали Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Андронову.
Старая Площадь, Июнь
Юрий Владимирович чувствовал себя, откровенно говоря, неважно. Его мучили боли в спине – обычная вещь для страдающих почечными недугами. Надо было бы отдохнуть, но где там!
Все шло наперекосяк.
Переговоры с Пакистаном как-то затягивались. За три месяца – никаких продвижений, как будто обе стороны вдруг взяли и передумали договариваться. Верный человек Симакова, внедренный в переговорный процесс, сообщал – саботаж идет с обеих сторон. Почему?
«Александр Суворов» – новейший теплоход, прошлогодняя постройка – влетел в пролет моста в Ульяновске. Люди погибли, стратегический мост через Волгу разрушен, как это могло быть? Похоже, никто больше ни за что не отвечает. Или саботаж?
Да и как можно требовать с людей, если основа страны – партия – хромает на обе ноги? Аппарат живет сам по себе, страна – сама по себе, два мира, похоже, не соприкасаются. Да и что говорить – вчера в разговоре с сыном Игорем он вдруг обнаружил, что тот и представления не имеет ни о советских магазинах, ни об уровне цен в них. Посмотрев на себя, понял – он ведь тоже не был в магазине лет пять, не менее!
Все надо было менять. Срочно. Но не тут-то было! Андронов просто физически чувствовал сопротивление аппарата и неуязвимость системы как неуязвим скользкий и упругий осьминог – ухватить не за что. А когда показывается какой-то факт или след, то находятся люди, прячущие концы в воду. Они привыкли к тихой и спокойной жизни с прежним Генсеком, но сейчас время другое. И люди должны быть другими. А кому не нравится – пусть уходит! Аппарат надо было не то, чтобы прореживать, но полностью менять, а некоторым и создавать условия для длительного раздумья о своей судьбе в местах не столь отдаленных.
Пленум необходимо проводить самому.
Уходить никто не хотел, все привыкли, что начальство пошумит и забудет, не добившись результата. И если он сам не сделает решительного шага, то все останется по-прежнему.
На сегодня свои важные дела. Начнем с приятного.
Андронов нажал клавишу селектора.
– Олег Дмитриевич пришел?
– Да, дожидается.
– Пригласите, пожалуйста.
В просторный кабинет вошел невысокий человек с крупными чертами лица.
– Здравствуйте, Юрий Владимирович
– Добрый день, Олег Дмитриевич. Располагайтесь, – сказал Андронов, вставая из-за стола и идя навстречу вошедшему. Чай?
– Спасибо, с удовольствием.
– У меня, собственно, вот какое дело. ЦК решил укрепить Министерство тяжелого и транспортного машиностроения. На этом направлении у нас многое могло бы идти лучше, тем более, что здоровье министра Владимира Федоровича оставляет желать много лучшего. И годы немалые. Поэтому ЦК принял решение о том, что Сергей Александрович Афонин возглавит это важнейшее направление работ.
– А как же Минобщемаш?
– Сергей Александрович рекомендовал вас на этот пост. ЦК поддерживает вашу кандидатуру. У вас нет возражений?
Вопрос был риторическим – возражать ЦК было не принято.
– Ну и славно. Желаю вам успехов.
Андронов затянулся очередной сигаретой и с тяжелым вздохом взял лист бумаги, до этого бывший перевернутым. Справка Комитета госбезопасности содержала результаты расследования по многочисленным письмам в адрес ЦК о произволе Краснодарского начальника. Справка наводила ужас – взятки, злоупотребления, расхищение госсобственности, а все основывалось на дружбе с прежним Генеральным – никто не смел его тронуть. Но очень плохо было то, что в этом деле отовсюду торчали длинные руки Министра внутренних дел. Он, похоже, откровенно покрывал взяточника и мздоимца. Почему?
Нет, с этим надо было кончать! Лучше прямо на Пленуме.
На столе замигала лампочка вызова. Андронов нажал клавишу селектора.
– Юрий Владимирович, – раздался металлический голос, – встреча с товарищем Кармалем в Кремле через тридцать минут.
– Хорошо, я выхожу.
Спустя два часа Андронов вернулся на Старую площадь. Плохое настроение стало еще хуже – Бабрак Кармаль совершенно не воспринимал слов, до него просто не доходило, как советские войска, посадившие его на трон, могут ни с того ни с сего взять и просто уйти из Афганистана. Как попка-дурак он повторял заклинания о международной солидарности, борьбе с империализмом и прочее, в глубине души надеясь, что чем больше он будет повторять мантры, тем крепче они дойдут до Аллаха, так, что ли??? И дипломатично высказанное утверждение, что количество войск будет сокращаться, он не услышал вообще.
Что за дьявольщина! Куда не кинь, везде стена.
Настроение еще ухудшилось после переваривания той пищи, которую ему навязали доктора. О вкусовых качествах говорить не приходилось. – Я как машина, – подумал Андронов, – работает только при заправке нужным бензином и маслом. Ничего не поделаешь!
1983: Звездные войны – 2. Маневр силами и средствами
Твм же, через час
– Юрий Владимирович, 17:00. Дмитрий Федорович, Николай Васильевич и Виктор Михайлович
– Просите.
– Здравствуйте, товарищи, – Андронов сделал несколько шагов навстречу, это было непросто на исходе дня – боли все сильнее мучили его. – Садитесь. Так с чего начнем? Давайте с ракет средней дальности.
– Юрий Владимирович, – начал Сатинов, – ракеты «Першинг-2» в количестве 108 пусковых установок будут размещены в ФРГ в ноябре этого года. Это мнение и наших специалистов, и Комитета.
Виктор Михайлович – преемник Андронова – кивнул головой.
– Так. – Юрий Владимирович пускал кольца. – А крылатые ракеты?
– У Штатов их и так слишком много, так что еще 464 КРНБ значения особого не имеют . Вот «Першинги» – это серьезно.
– Плохо. А что мы можем противопоставить?
– Николай Васильевич, пожалуйста, кивнул Сатинов.
– На самом деле, мы готовы ко всему, – Свечин расстелил карту. – Мы и без «першингов» имеем в Европе 850 НАТОвских носителей ядерного оружия средней дальности и 3000 ядерных боезарядов. Беспокойство вызывает только точность этих новых ракет. Но у нас есть свой ответ на это.
– Поподробнее, пожалуйста.
– Во-первых, по нашим оценкам большинство потенциальных целей «Першингов-2» располагается в Москве и в Подмосковье под защитой действующей системы ПРО;
Во-вторых, в соответствии с Договором о противоракетной обороне 1972 года система ПРО Москвы может иметь до 100 пусковых установок противоракет – практически столько же, сколько развёрнутых «Першингов-2», а скорость подлета боевого блока «Першинга» к цели значительно меньше, чем боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты, для уничтожения которых и планировалась ПРО Москвы, поэтому, засекая пуск ракеты с территории ФРГ, мы можем быть уверены в поражении ее боевого блока средствами ПРО Москвы.

