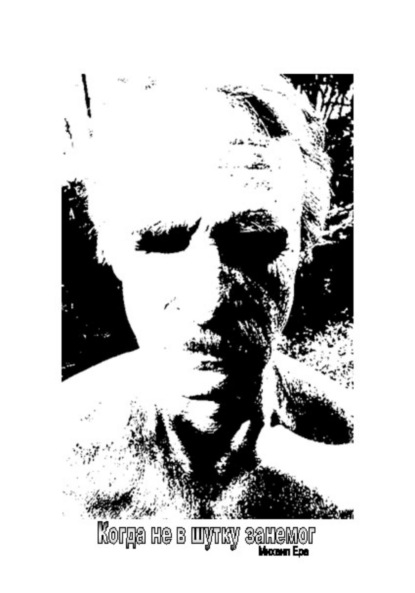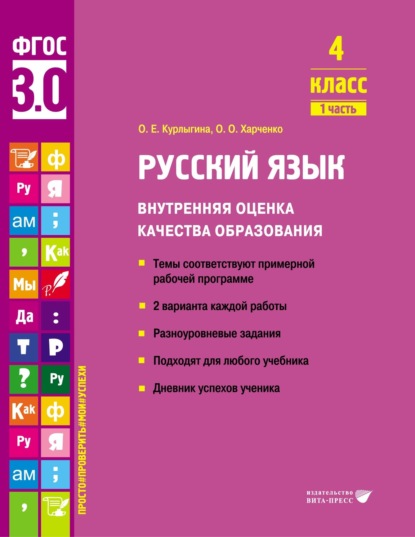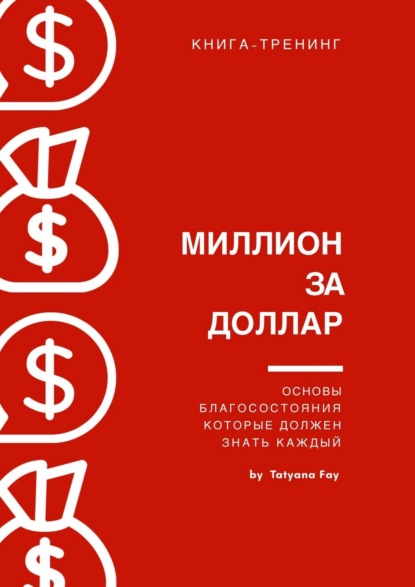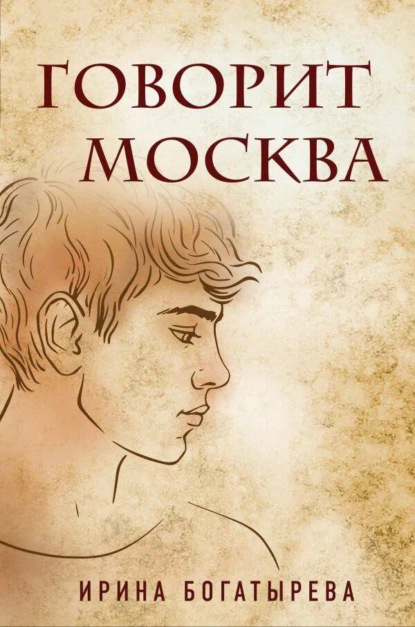Хроники Третьей Мировой войны, которой не произошло
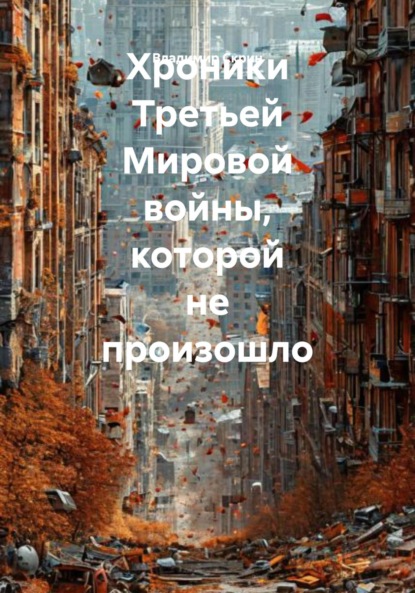
- -
- 100%
- +
Рогатин…. Гаршин был бы куда лучше! Молодого Валерия лучше бы не показывать высокому начальству. Как по политическим соображениям – он всегда имел свои представления о ситуации и мог ляпнуть что-то, не соответствующее «генеральной линии»; так и по этическим причинам – личные дела его были запутаны. Но раз уж он здесь, то пусть будет под рукой, , несмотря на молодость, Рогатин уже имел репутацию небесполезного предмета, особенно в нестандартной ситуации.
Встретиться с Анатолием Петровичем было сложно, директор был крайне занятым человеком, к тому же, неважным управленцем, необязательным и увлекающимся. Может быть, удастся решить еще что-нибудь из срочных дел?
Взгляд упал на докладную Трубниковой. До визита А.П. все «хвосты» должны быть подчищены. Может быть, действительно, директор сделает какое-то исключение для уважаемого сотрудника и походатайствует перед системой охраны секретов?
С этой мыслью НН достал из стоящего на столе прибора традиционную перьевую ручку, на полях начертил резолюцию, поставил подпись и положил бумагу в исходящую почту.
***
Валерий Рогатин в это время прошел через первую проходную. Он с удовольствием ощутил сырой чистый сосновый воздух, машинально просмотрел номера стоящих около проходной автомобилей – кто на месте – и с удовольствием затянулся сигаретой. Проходная была для него границей, отделяющей мир прочих людей от мира идей и свершений, границей между социалистической реальностью и настоящей жизнью.
Валерий не мог себе признаться, что боязнь потерять именно это чувство «настоящей жизни» была очень сильной, в значительной мере диктующей его поведение. В Институте он был по-настоящему дома, он чувствовал, что только здесь, на этой земле, среди этих сосен, ускорителей, реакторов, людей и ЭВМ он живет, а не существует. Тем более, среди этих людей – пусть насмешливых, придирчивых, но практически неизменно откликающихся на просьбу о помощи – таковы были традиции бывшей Лаборатории измерительных приборов, ныне Института.
Родители Валерия работали на оборону – напряженно, с авралами, выездами «на картошку» и редкими праздниками, в общем, как и все вокруг. Семья жила трудно, годы были послевоенные, отец – инвалид войны, больной младший брат, родственники, приезжавшие и уезжавшие, отчего в маленькой квартире было довольно-таки тесно… Как и все мальчишки, Валерий хотел быть героем – кем-то типа летчика-испытателя с яркой и интересной жизнью, совершенно другой, чем повседневные серые будни – подъем, зарядка, завтрак, школа, уроки, музыкалка с хором, ненавистные упражнения на фортепиано, от которых болели руки (позже Валерий понял, что дело было в учительнице, но оно и к лучшему – отбили желание становиться профессиональным музыкантом) . Но как-то раз – в один момент – жизнь взрослых предстала совсем в другом свете, и внутренние ощущения Валерия здорово изменились. Это было в мае 62-го – пришло известие, что атомный корабль, сердце которого было создано на фирме родителей, успешно завершил испытания. Как только на телетайпе в приемной Директора появилась поздравительная телеграмма, подписанная Главкомом ВМФ (директор переслал ее с борта атомохода), весь коллектив КБ – от заместителя директора Акименко до копировщицы Благонравовой – мгновенно вырос на пару десятков сантиметров от переполнявшей их радости. Никакая работа в этот день была уже невозможна. Дом Рогатиных был хлебосольным, человек пятьдесят наиболее причастных к событию сразу перетекли из фирмы в маленькую квартиру; все буквально стояли на ушах (включая кота Кузю – ему было тоже интересно, бедняга, сверкая зелеными глазами, метался по длинному коридору, уворачиваясь от желающих потискать мохнатое шестикилограммовое чудище).
Оказалось, что герои, гиганты и титаны – вот они, те самые, что сидят здесь за столом. Дядя Вася, приславший телеграмму – вообще Герой Соцтруда, дядя Вова Акименко – лауреат Сталинской премии, родители – среди достойнейших! Люди ходили с гордо поднятой головой. И было, почему. Напряжение и лишения – цена победы, они – герои – платили, не торгуясь. Корабля не было, а теперь есть! И какой корабль!!!
На всех участников пролился золотой дождик разной интенсивности, отец и мама получили ордена – он сам когда-то это видел на ВДНХ, приличные (как он понимал уже тогда) премии.
Это было сильнейшим впечатлением детства и наглядной демонстрацией правил игры: герои – везде, главное – честно сражаться и победить, мнение своих – то, за что стоит бороться, а остальной мир, в общем, не имеет значения…
Валерий с тех пор заразился атомной тематикой, он запоем читал все, что только попадалось под руку, поступил на самый трудный факультет в тяжелый год двойного школьного выпуска и, наконец, прорвался в лучший, как ему казалось, научный центр Союза (ощущения были такими, что его взяли в сборную страны). Для этого надо было немного – всегда входить в первую тройку. Но Валерию было не привыкать – в студенческие годы он был спортсменом, он привык работать, терпеть, бороться и побеждать.
Его карьера в Институте развивалась типично для героической эпохи начала 70-х, каждая задача, которую приходилось решать, была новой. Жить было безумно интересно. Чтобы выжить, надо быть первым.
Рогатин довольно быстро заметил, что не все люди воспринимают жизнь в его стиле. Он искренне не понимал публику, озабоченную собственной научной карьерой и тратившей, по его мнению, лучшие годы на пережевывание известных из книг истин и публикацию данного жевательного продукта в виде статеек в ВУЗовские сборники, а потом собирающие все это в диссертацию.
Но это его не волновало. Он работал с утра до ночи. Голова была постоянно занятой – даже во время игры в волейбол после рабочего дня. Двадцати четырех часов в сутки не хватало. И все было хорошо до осени прошлого года – реальный тупик, тормозивший всю проблему, далее (выстраданное тяжелейшим трудом) неожиданное и красивое решение, сам вид которого доставлял удовольствие не только ему, но и жюри конкурса научных работ. Статья на развороте «Советского физика», приличная премия победителям лично от Анатолия Петровича…. Медные трубы в полный рост. Более важным было «зачисление в основной состав» – его признали как своего, скидок на молодость больше не было, и требования сразу же стали куда более жесткими. Валерий этому только радовался. Он поднялся на новую ступеньку.
И вот тут-то гром и грянул.
Чего ему не жилось спокойно? Семья, маленькая дочь, жена Вера – не то, чтобы горячо любимая, но верная и любящая. Так ведь нет!
– Свинья всегда грязи найдет, – подумал в какой уже раз Валерий и с досадой выкинул окурок.
Он остро ощущал атмосферу ранней зимы – это время всегда настраивало его на рабочий лад, думалось легко и свободно. Но сейчас на его плечах как мешок с цементом постоянно висел тяжелый груз созданных самостоятельно трудноразрешимых проблем. Никто, кроме него, не был виноват в его нынешней ситуации.
По правде говоря, Валерий «замастерился», как говорили в раздевалке их конькобежной сборной. Получив уверенность в себе, он воодушевился, стал еще более свободным, от рук буквально все отскакивало, он заражал своим огнем и энтузиазмом окружающих….
К сожалению, не только в своем, но и в соседнем подразделении. Рогатин, который был остроумная Анна. Их профессиональные интересы постепенно сблизились, далее сблизились и они сами…
Однако через не очень продолжительное время ему стало ясно, что эти отношения – дорога в никуда. Валерий стал реже бывать у соседей, вздохнул было с облегчением, однако ситуация резко и неожиданно изменилась. Анна, как выяснилось позже, очень долго принимала решения, но решив, шла напролом. Валерий был потрясен, увидев ее в коридоре собственного здания – оказалось, что она уже давно подала заявление о переводе, которое и было удовлетворено. Но это было только первой фазой проблемы. Анна была женщиной, захотевшей повернуть обстоятельства, что она и сделала – то ли по расчету, то ли по душевному порыву. Кто знает?
Валерий впервые в жизни был вынужден подчиниться чужому решению и сознательно пожечь мосты. Ситуация доводила его до крайних вариантов – на военной переподготовке этой весной, держа в руках пистолет Макарова, он с трудом удержался от того, чтобы пустить себе пулю в лоб, выбора уже не оставалось, последствия были однозначными. Валерий достаточно уважал свою жену, чтобы ее обманывать, но даже все рассказать и покаяться выходом не было по целому ряду причин! После он всегда будет жить с ощущением постоянной вины, разрываться на две части – увольте, да и Вера бы на это не пошла!
Валерий собрался и ушел, он хорошо помнил этот мартовский вечер… тогда он уехал в командировку и не вернулся… Вина оставалась, но, во всяком случае, он поступил настолько честно, насколько позволяли обстоятельства. Он сознавал, что его дочь будет расти без отца, но в противном случае оба ребенка будут без отца! Капкан захлопнулся. Он сознавал, что теперь он должен еще больше бороться и терпеть. Под прошлым подведена черта, вставать на ноги надо заново.
Ну что поделаешь – раз так получилось, надо сделать вид, что так задумано. В конце концов, ему всего двадцать восемь, может быть, все устаканится?
С этой мыслью (по правде говоря, с одной и той же в течение последних месяцев) он нажал кнопки шифрозамка на двери.
Шифрозамок вовсе не означал, что внутри нет охраны. В последнее время строгости режима усилились, и постороннему человеку даже войти в здание испытательного комплекса без сопровождающего было невозможно.
Скромный двухэтажный домик из серого силикатного кирпича в десять многостворчатых окон по фасаду, одиноко стоящий на самом отшибе территории, никак не позволял предположить, что фасад является короткой перекладиной большой буквы «П», скрывавшей несколько «горячих камер», критических стендови два полномасштабных испытательных комплекса, расположенных на трех подземных этажах. Догадаться об этом можно было только по высокой трубе красного кирпича.
Этот участок начал застраиваться еще в сорок четвертом.. Ясное дело, что опыты легендарных основоположников по созданию конструкции для наиболее быстрого и надежного сближения частей ядерного заряда могли создать некоторые трудности для окружающей действительности, поэтому комплекс располагался подальше от остальных сооружений ИИП. В героические пятидесятые здесь разрабатывались и Пилотируемый Атомный Самолет, и Крылатая Атомная Ракета, потом была «Ромашка , другие «цветы»; а сейчас – не только «Амур», но и иные творения воспаленного человеческого разума.
Еще оставалось немного времени, можно было заняться делами и просмотреть результаты ночного счета, потом – вниз на смену, к железкам и тем же невеселым думам о том, как начать все заново… . Надо было зарабатывать деньги, смены – не только знания, но и надбавки, вредный стаж, кормежка и другие блага…
Валерий наконец-то открыл дверь к себе в комнату; народ оторвался от дел и от трепа.
– Срочно зайди к Стряпухину, он тебя спрашивал уже не раз. Похоже, ему чего-то надо именно от тебя.
Рогатин постучался в дверь. Он испытывал неподдельное почтение к духам прежних хозяев сего кабинета, где сами стены генерировали атмосферу побед интеллекта над обстоятельствами… Нынешний хозяин, начальник испытательного комплекса Николай Евгеньевич Стряпухин, небольшого роста, одетый в белый халат, ладно сидящий на его квадратной фигуре тяжелоатлета, был, как всегда, занят. За длинным столом сидели начальники служб, доска была разрисована мелом, а на столе лежали какие-то синьки. Это было нормально – жизнь шла своим чередом.
Увидев Валерия, он кивнул.
– Привет, Валера, подбери свои бумаги, в особенности все, что касается САУ, и будь на смене. Я тебя найду – он задумался, – часа через три.
Старая Площадь 6, 17:00 того же дня
Иван Дмитриевич Сорбич внимательно читал подготовленный его аппаратом проект Постановления ЦК и Совмина.
Кабинет, похожий на пенал, был длинным, узким и неудобным, летом было слишком жарко – большие окна третьего этажа выходили на юг, к Кремлю, но Ивану Дмитриевичу нравилось. Посетителю казалось, что он в сходящемся кверху деревянном ящике типа гроба (стены были обшиты панелями), волей-неволей он терялся и чувствовал себя весьма некомфортно, и это также помогало в дискуссии. Правда, в последние годы желающих дискутировать со всесильным «Иваном Грозным», в общем-то, и не было.
Тишину кабинета нарушил звонок с аппарата АТС-1 – связи самого высокого уровня. На эти звонки отвечать надо было всегда.
– Иван Дмитриевич, привет! Это Колбасов тебя тревожит. Как, закончил с Постановлением?
Сорбич вздрогнул. Постановление было совершенно секретным, круг исполнителей насчитывал не более десятка человек. Колбасова среди них и близко не было.
– Алексей Викентьевич, я не готов ответить.
– Да ладно, не темни, я в любом случае должен знать, сколько валюты я должен выделить твоему Виктору и когда. Но я не об этом. Звоню из приемной Самого. Надо поговорить, и чем раньше, тем лучше. Хорошо бы прямо сейчас.
Сорбич ответил без раздумий.
– Хорошо, закрою сейф и готов. Где?
– Как хочешь, можно у меня, но думаю, что у тебя было бы удобнее. Может понадобиться твоя картотека.
– Отлично. Буду рад видеть. Заходи прямо сейчас, я распоряжусь насчет чая.
Сорбич не лукавил, он действительно был рад поговорить с нужным человеком.
На другом конце провода невысокого роста мужчина с неприметными чертами лица вздохнул с облегчением. У него также были свои резоны для откровенного разговора.
Он никогда не появлялся на страницах печати, о радио или телевидении не было и речи; на лечение в Карловы Вары он выезжал (под надежным присмотром) по документам скромного сотрудника Всемирного Совета Мира.
Однако его роль в жизни верхушки страны была огромной.
Алексей Викентьевич Колбасов был начальником финансового управления ЦК КПСС. Конечно, называлось оно совсем по-другому, но суть была в функциях, а не в вывеске.
Даже Иван Дмитриевич – прагматик, далекий от фанатизма – всегда удивлялся невероятному сочетанию богатства партийной фразеологии Колбасова и его реальным решениям, полностью противоречащим тому, что он страстно излагал десять секунд назад. Власть Алексея Викентьевича была воистину безграничной. Только он знал, сколько денег имеется в данный момент в партии и стране; сколько истрачено, когда и на что, по каким статьям – открытым или не очень; кто, сколько и в какой валюте должен получить и для какой цели и, главное, – откуда эту валюту взять.
Понятно, что этот пост можно было занимать только при совершенно особых личных качествах и тесных связях со всей партийной верхушкой.
Колбасов работал в центральном аппарате с 1939 года. Он привлек внимание идеологов ЦК кампанией, которую он начал в своем родном Курске. Тогда, будучи секретарем одного из райкомов комсомола, он выступил с инициативой прикрепления отличников к отстающим школьникам и персональной ответственности оных отличников за этих разгильдяев и хулиганов. Инициатива была распубликована вначале местной, а потом и центральной прессой, Колбасова заметили и выдвинули. Это был первый шаг наверх.
Алексей Викентьевич прекрасно сознавал безнравственность, бесперспективность и античеловечность подобной затеи, но для него это было неважно. Люди всегда были для него мусором, в лучшем случае, стройматериалом для реализации коммунистических идей и достижения собственных целей.
Сочетание фантастической памяти при гибком уме и беспринципности с отлично подвешенным языком, знанием человеческой психологии и умением хранить чужие секреты помогли ему не только занять ключевой пост, но и удерживаться на нем уже почти двадцать лет. Сталин, Хрущев, Брежнев – они менялись, а Алексей Викентьевич оставался незаметной, но исключительно важной деталью партийного механизма.
О его истинной роли вообще мало кто догадывался – в глазах миллионов людей и громадного большинства членов партии Всемирный Совет Мира был чем-то вроде сборища болтунов, вещающих по радио и телевидению о происках империалистов, поджигателей войны. Иногда эти невнятные люди организовывали акции протеста (скорей всего, от нечего делать) против очередных агрессоров, были рупорами прогрессивного человечества и т.д. В печати мелькали только имена Председателей Совета – Ромеша Чандры или кого-то там еще.
Однако, если посмотреть на персональный состав ВСМ повнимательнее, то можно было сообразить, что столь уважаемых людей не стали бы отвлекать по пустякам. Все деятели Совета Мира были выдающимися специалистами в своих областях; партийной номенклатуры там не держали, и просто появление индивидуума в списках ВСМ знающим людям говорило о нешуточном статусе оного. Касательно Колбасова, то генсек был его личным другом (говорили, что их знакомство произошло задолго до Москвы, он был даже крестным его сына Валерия), а Михаил Андреевич Солодов высоко ценил эрудицию и даже прибегал к его консультациям при поиске нужной цитаты из первоисточников. Память у Алексея Викентьевича была необозримой и структурированной, он старался вообще не вести никаких записей…
Все было стабильно и воистину очень хорошо.
Ничто не предвещало беды.
Проблема просто свалилась с неба. Самое ужасное, что с этим ничего нельзя было сделать! Решение должно было быть найдено в наикратчайший срок, причем в виде даже какого-то поощрения(в ином случае он бы просто позвонил куда следует, и проблема исчезла бы вместе с человеком).
Иван Дуров был давним другом и соратником Алексея Колбасова. Они даже учились в одной школе, правда, с большим разрывом в годах. Иван внимательно следил за продвижением однокашника и хорошо воспринял основные и типичные приемы борьбы за место под солнцем – громкое провозглашение лозунгов, цитирование решений очередного съезда (Пленума ЦК), держание носа по ветру и глубокую преданность начальству. Но Иван довольно быстро понял, что Алексей в этом виде спорта куда сильнее – несколько его попыток выдвинуться в комсомольской иерархии не привели к заметным успехам. И тогда Дуров принял решение – начальством будет Колбасов. Держаться надо именно его.
Колбасов это заметил, молодому человеку было лестно видеть уважение приятеля – в сущности, такого же молодого парня. Он понял, что Дурову можно доверять, и упорный и старательный Иван никогда не подвел своего начальника и друга. С течением времени Иван, два года ходивший на вечерние занятия на спецфакультете финансово-экономического института, усовершенствовавший немецкий до свободного, а английский и испанский – до разговорного, стал самым доверенным лицом в делах, которые требовали высочайшей аккуратности – в скрытом финансировании «братских» компартий (или того, что подразумевалось под этим эвфемизмом Международным отделом ЦК). Без абсолютно надежного помощника здесь было не обойтись – надо было изображать коммерческую деятельность, учреждать фирмы за рубежом, переводить или перевозить (!) деньги и т.д..
Тандем Колбасов – Дуров работал в течение многих лет. Скромная должность Ивана Артемовича и место работы – отдел Госснаба по «специальным программам» (мероприятиям по переводу гражданских объектов на военное положение) – были хорошим прикрытием для частых командировок. Госснаб и сам по себе был очень теплым местом, а загранкомандировки и большие инвалютные суммы, проходившие через руки друзей и соратников, делали жизнь еще более приятной. Руки при этом оставались абсолютно чистыми, что здорово повышало самооценку, Колбасов-то знал, этим качеством могли похвастаться далеко не все…
Но проблема возникла там, где ее меньше всего ждали. Ею оказался Александр Дуров – сын Ивана.
Саша Дуров унаследовал от отца крайнюю тщательность и аккуратность. В детстве он был нехарактерным мальчуганом – по-девичьи наблюдательным, болезненно относившимся к своей внешности, скромным, внимательным и застенчивым. Он никогда не высовывался, не примыкал ни к каким компаниям; учился хорошо, но не блестяще.
После вступления в комсомол его почти сразу продвинули в школьный комитет – на фоне зачуханных озорников-сверстников он, по контрасту, выглядел как-то по-взрослому – аккуратным, вдумчивым и неспешным. Александр сразу же выбрал для себя организационный отдел, он не чурался бумажной работы, и отчеты школьного комитета ВЛКСМ были образцово-показательными. Это заметили наверху, и через год во время выборов в райком ВЛКСМ его выбрали в РК, подразумевая орготдел.
Саша работал в Орготделе и готовился к поступлению в ВУЗ – подобно тысячам его сверстников. Но почти никто не догадывался, что под маской скромного и безотказного немного застенчивого парня скрывается холодный и расчетливый субъект, главной чертой которого была бешеная зависть и ревность к чужим успехам (конечно, он и не догадывался об истинном положении собственнного отца). Застенчивость и аккуратность были высшим проявлением осторожности – Александр не мог позволить выглядеть плохо в глазах окружающих, поэтому в сомнительных случаях лучше было помолчать – риска меньше. Все окружающие были для Саши врагами, отнимающими у него последний кусок (естественно, эти «враги» очень бы удивились, узнав об этих мыслях, и никогда бы не поверили, если бы им об этом сказали).
Однако в СССР были специальные люди, которые в силу своей профессии искали и находили такого рода индивидуумов. Один из них пригласил Александра в райком КПСС и доходчиво разъяснил, что компетентные органы хотели бы иметь информацию о настроениях молодежи, и Александр Дуров из-за своих выдающихся личных качеств достоин высочайшего доверия в этом секретном и нужном Родине деле.
Для Александра началась другая жизнь. Он почувствовал себя не таким, как все – избранным. Его «отчеты» действительно оказывали влияние на жизнь его окружения. Но Александр был очень осторожен. Он никогда не сводил счеты со сверстниками – цели были куда более грандиозными, и разбрасываться не было смысла. Александр легко поступил в ВУЗ, был сразу же «рекомендован» в комитет комсомола. «Основная» деятельность не прекращалась ни на день.
ВУЗ был закончен, реально встал вопрос о том, что делать дальше. Однако решили без него. Молодому человеку надо было служить в армии, его призвали в весьма специальное учебное заведение без названия, где за два года ему преподали необходимые навыки как для выявления вражеских агентов и домаших инакомыслящих, так и для противодействия таковым.
После «демобилизации» – по документам он, подобно миллионам его сверстников, просто служил срочную службу в в/ч ХХХХХХ – молодого коммуниста Дурова направили в республиканское Министерство, соответствующее профилю его ВУЗовского образования, опять на освобожденную комсомольскую работу.
Эти два года были решающими для формирования характера Александра. Он стал еще более внимательным, подозрительным и скрытным, ему достаточно хорошо внушили, что предателем может быть (стать) каждый. Кроме того, он хотел сделать карьеру. Но как? Путь по служебной лестнице представлялся ему длинным и утомительным, и еще неизвестно, до какой ступеньки дойдешь.
Но как сделать рывок?
Это было возможно только в результате чего-то экстраординарного. В составе системы далеко не продвинешься, если ты что-то и сделаешь, то лавры соберет ближайшее начальство. Нужен несомненный личный успех. Личный! Вычислить и выявить врага – персону или организацию, сделать это тихо, без шума и пыли, собрать доказательства и потом предъявить на блюдечке. Вот тогда все увидят, чего стоит А.И.Дуров!
Но в Министерстве врагов как-то не находилось. Фрондерствующие группки молодежи, рассказывающие анекдоты про «дорогого Леонида Ильича», седые ветераны, обсуждающие свои прошлые успехи и достижения, вспоминающие сталинский порядок – в общем, ничего выдающегося.
И в один из дней на него нашло просветление. Это было ранним утром. Саша смотрел на себя в зеркало во время бритья. В итальянском зеркале с подсветкой отражалась не только его физиономия, но и финская сантехника IDO большой ванной комнаты их просторной квартиры в новом доме в Кунцево – все привычно и обыденно.
Только сейчас он первый раз обратил на это внимание – откуда такая квартира, что за дом с консъержкой и громадными лестничными площадками? Откуда техника и обстановка? Отец – скромный служащий какого-то «снаба» (более подробно он не знал, говорить в семье о делах не было принято); мать – преподаватель английского языка в техникуме, так что уровень жизни совершенно не соответствовал положению. Ни сантехнику, ни зеркало, ни мебель, которой их квартира была обставлена, купить за рубли в московском магазине было нельзя. Все свидетельствовало том, что, кроме неведомо как приобретенной загадочно высокой позиции, где-то должен быть источник дохода в валюте, причем источник стабильный и долголетний.
И тут он стал присматриваться к отцу. Только он мог организовать все это, и, очевидно, не вполне легальными способами. А наличие валютного источника заставляло предположить, что эти способы связаны с чем-то иностранным. Для Александра, как и для большинства советских людей, слова «иностранец» и «шпион» были практически синонимами.