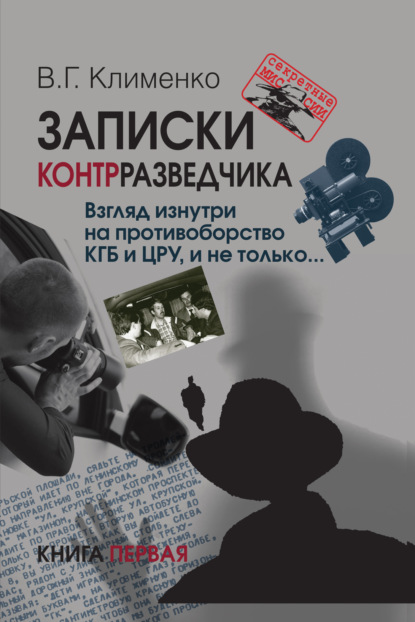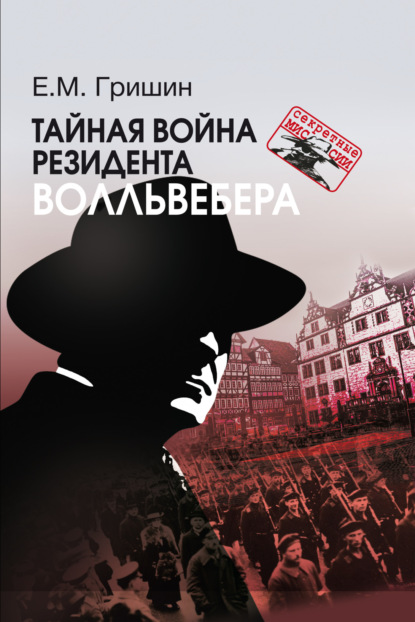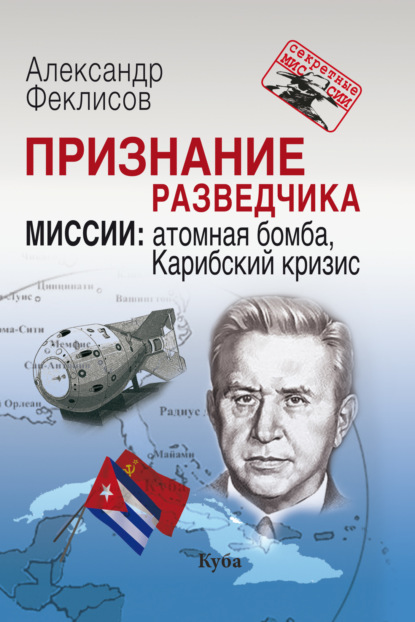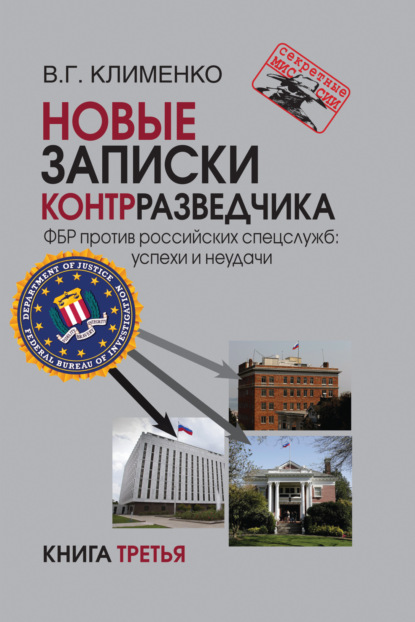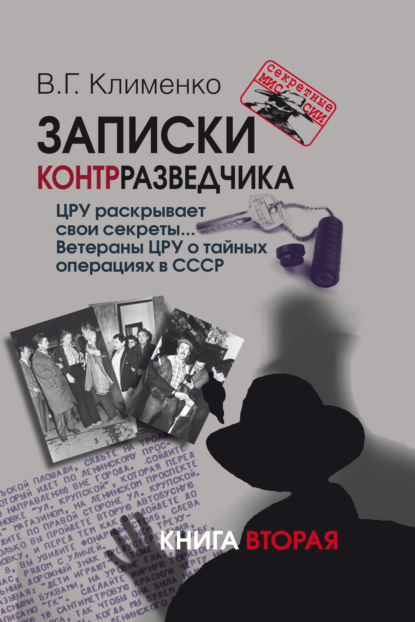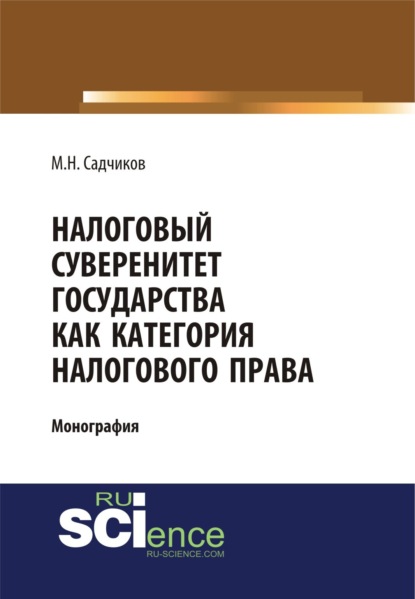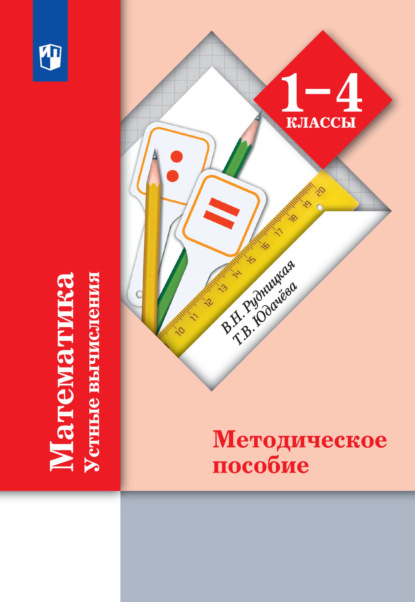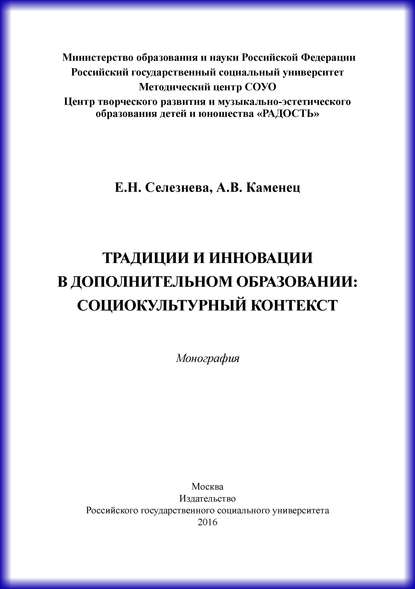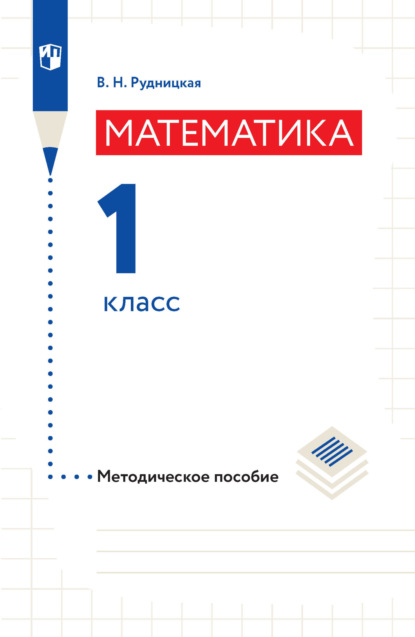Генерал невидимого фронта. Он был одним из главных героев холодной войны
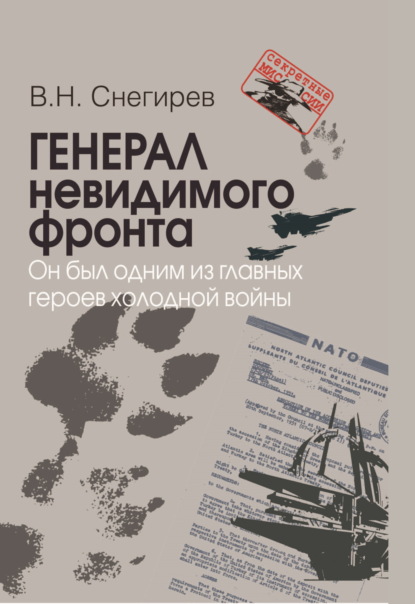
- -
- 100%
- +


Серия «Секретные миссии» издательства «Международные отношения»

Автор выражает глубокую благодарность А.Н. Пронину
за помощь в издании книги
Публикуются фотографии из личного архива Б.А. Соломатина,
предоставленные Егором Соломатиным;
из архива Игоря Леонова, Андрея Лозового;
а также из архива издательства «Международные отношения»
Оформление художника А.Ю. Никулина

© Снегирев В.Н., 2016
© Подготовка к изданию и оформление. ООО «Издательство “Международные отношения”», 2025
От автора
Герой этой книги генерал-майор внешней разведки Борис Александрович Соломатин при жизни был явно обделен славой и почестями.
Так получилось.
Сама его профессия не предполагала публичности, а напротив, требовала всегда оставаться в глубокой тени. Потом, в пору гласности, на сцену выдвинулись другие герои, энергичные, деловые, напрочь лишенные таких химер, как скромность и достоинство. А он опять остался в тени – теперь это был не служебный, а личный выбор.
Пришла пора рассказать о генерале, которого за океаном и сейчас с уважением вспоминают как одного из главных врагов Соединенных Штатов времен холодной войны.
Мы познакомились в самом начале 1990-х. Однажды я обратился к своему старинному другу генерал-лейтенанту Службы внешней разведки Владимиру Павловичу Зайцеву с просьбой порекомендовать для интервью кого-то из живущих ветеранов «невидимого фронта». С Зайцевым мы были давно знакомы, он служил в Кабуле руководителем представительства КГБ СССР, а я там исполнял обязанности журналиста, представлял сначала «Комсомолку», потом «Правду». Между нами еще с середины 1980-х установились уважительно-доверительные отношения. Палыч, когда я обратился к нему со своей просьбой, недолго думал. «Соломатин! – сразу сказал он. – Конечно, Борис Александрович Соломатин. Хочешь, я ему прямо сейчас и позвоню».
Прежде я никогда не слышал этой фамилии, что, кстати, очень удивило Зайцева. «Да ты что! – воскликнул он. – Это же легендарный человек. Генерал-майор. Заместитель начальника Первого главного управления. Любимец Андропова. Самый лучший из всех, кого я знаю».
Палыч никогда не откладывал дела в долгий ящик, не тянул резину. Он сразу набрал номер телефона и в свойственной ему энергичной манере порекомендовал меня невидимому собеседнику как своего давнего и проверенного друга. «Вот и все, Вова, – сказал он, положив трубку. – Завтра можешь отправляться к нему домой. Дед тебя ждет. Только ты поаккуратнее с ним. Если не понравишься, то он тебя мигом отошьет».
Смысл этого предупреждения я понял сразу, едва переступил порог квартиры в Зоологическом переулке. В прихожей меня встретил довольно неприветливый пожилой человек. У него были колючие глаза. Лицо, словно высеченное из камня. Да и манеры тоже соответствовали внешнему облику: ни малейшего желания понравиться нагрянувшему журналисту, никаких тебе «сюси-пуси».
Проследив, чтобы я снял в прихожей ботинки, он пригласил меня в гостиную, усадил на диван, сам сел напротив и тут же закурил сигарету, размяв ее сухими старческими пальцами.
– Ну, с чем пожаловали? – неприветливо спросил он.
Пожаловал я с желанием узнать мнение ветерана относительно тех перемен, которые коснулись его профессии. Время наступило лихое: Союз развалился, холодная война закончилась, Америка стала нам почти родной, и что же теперь оставалось делать рыцарям плаща и кинжала?
Выслушав все это, хозяин квартиры хмыкнул, затянулся сигаретным дымом и произнес:
– Надо быть большим дураком, чтобы расслабиться и ушами хлопать. Все главные битвы еще впереди, и наши люди без работы не останутся. Американцы, в отличие от нас, насколько я знаю, вовсе не намерены дарить кому-то схемы своих подслушивающих устройств или сокращать ассигнования на спецслужбы. Помяните мое слово, мир ждут времена большой нестабильности и многих опасностей. И не может быть никакой разрядки в войне разведок. Что же касается агентурной работы, то президент Буш дал указание в два раза увеличить расходы на нее и активизировать деятельность агентуры на территории нашей страны. Штаты всегда считали хорошо поставленную разведку жизненно важной формой страхования для своего государства.
…Так началось наше знакомство, которое затем переросло в дружбу. Вплоть до самой кончины Бориса Александровича я регулярно наведывался в его скромную квартиру окнами на зоопарк. Присутствовал на семейных торжествах, вывозил ветерана на его дачку возле Апрелевки. Мы пили чай, а иногда кое-что и покрепче. Беседовали на разные темы. Я опубликовал в газетах несколько крупных интервью с Соломатиным, а затем мы стали обсуждать вариант подготовки книги его воспоминаний.
Он и в дальнейшем так и не снял с лица свою суровую маску, смотрел на меня (и на мир) не очень приветливо, словно ожидая подвоха. Но я быстро понял, что так и надо. Что это тот редкий случай, когда по-другому и быть не может. Соломатин много лет провел на самых горячих участках войны – сначала Великой Отечественной, затем холодной. Он разрабатывал планы крупных операций и часто сам же реализовывал эти планы. Будучи одним из руководителей советской разведки, он отвечал за безопасность огромной страны. Нес ответственность за судьбу и жизнь многих людей.
Разведка, как и любая другая государственная структура, не лишена бюрократии. А раз так, то там, как и в любом чиновничьем аппарате, много людей, формально относящихся к своим обязанностям. Увы, можно и будучи шпионом годами перекладывать с места на место бумаги и писать казенные отчеты, получая звания, должности и даже ордена. Но «погоду» в этом ремесле делают другие. Наверное, их меньшинство, но именно благодаря их усилиям, их подвигам, их самоотверженности раскрываются коварные замыслы противника, становятся известными самые сокровенные секреты, делается большая политика.
Вот как раз Соломатин и был одним из таких людей. Возможно, даже одним из лучших представителей этого отряда.
Работа «в поле», лицом к лицу с противником была для него самой желанной. Он, собственно говоря, и провел почти всю жизнь «в поле». Пять длительных зарубежных командировок: дважды Индия, дважды США, один раз Италия. Четырежды возглавлял наши резидентуры.
Юрий Андропов действительно благоволил к Борису Александровичу, называя его прилюдно «классиком разведки». Сам глава ведомства являлся как раз типично кабинетным работником, но, будучи человеком проницательным, понимал цену таким людям, как Соломатин. Поэтому он еще в 1968 году присвоил 44-летнему разведчику звание генерал-майора и назначил его заместителем начальника Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). Скорее всего, не лишены оснований комментарии, согласно которым Андропов в перспективе видел именно профессионала Соломатина главой ПГУ, однако, как часто бывает, в аппаратных баталиях верх взял не профессионал, а чиновник. Искушенный в кабинетных делах В.А. Крючков занял кресло начальника разведки, а затем сделал все, чтобы затормозить карьерный рост Соломатина.
Наши беседы проходили каждый раз в одном и том же формате. Предварительно созвонившись, я приходил на Красную Пресню, занимал свое привычное место в углу дивана, доставал из портфеля бумаги с заранее заготовленными вопросами. Вера Михайловна обычно укрывалась на кухне: супруг не любил, когда кто-то третий присутствовал при разговоре. Сам он садился напротив, спиной к окну, сразу закуривал, иногда «для разминки» жаловался на болезни, которые в последние годы ему сильно докучали.
Не могу сказать, что это были приятные беседы. Иногда мне буквально клещами удавалось вытащить из него ответ. Причем (хочу сразу это подчеркнуть) речь шла не о каких-то там секретах, нет, я с самого начала согласился с тем, что генерал будет строго следовать установленным в их ведомстве правилам, то есть ни при каких обстоятельствах не выскажет ничего такого, что могло бы повредить государственным интересам или отдельным людям. Тут он стоял насмерть, и мне, честно сказать, это нравилось. На фоне некоторых других коллег, спешивших тогда красочно расписать свои настоящие, а чаще мнимые, подвиги, такая позиция вызывала уважение.
Однако порой он со своей «бдительностью» явно перебарщивал, и в таких случаях мы вступали в пикировки, иногда довольно жесткие. И все равно с каждой встречей наши отношения становились все теплее. Генерал видел, что я прихожу в его дом не из каких-то шкурных соображений, а мой интерес к нему и его ремеслу носит глубокий и искренний характер. Я же, в свою очередь, был рад общению с человеком неординарным, ярким и очень порядочным.
Мы затрагивали разные темы. Конечно, говорили про агентурную сеть Уокеров, которая появилась в США как раз благодаря Борису Александровичу Соломатину – это был «звездный час» в его карьере разведчика.
Обсуждали судьбу Гленна Соутера (Михаила Орлова) – еще одного ценного агента, завербованного в Италии при личном участии Соломатина.
Неоднократно возвращались к теме предательства, пытаясь вдвоем докопаться до корней этой беды, поразившей (особенно в 1980-е годы) нашу разведку.
Вспоминали руководителей ПГУ, причем характеристики, которые давал им Соломатин, были порой очень жесткими. Особенно не скупился он на едкие слова, когда речь заходила о В.А. Крючкове. Именно с ним Борис Александрович связывал многие проблемы, так вредившие спецслужбе. И крутые изгибы в своей судьбе он тоже связывал с ним.
Много раз обращались к теме места разведки в современном мире. Мне тогда казались спорными его утверждения, согласно которым перемирие между сверхдержавами носит временный характер и нам надо держать порох сухим. Он с горечью сетовал на то, что наша внешняя разведка стремительно утратила свои позиции в целом ряде важных регионов, и прежде всего в США. Возмущался: «Вот до меня доходят “из леса” слухи, что начальство запрещает активно работать против американцев: никаких вербовок, никаких острых операций». Сами же они, по словам генерала, напротив, значительно активизировали свою деятельность на просторах бывшего СССР.
Теперь, по прошествии времени, видно, как прав был Б.А. Соломатин.
Вернувшись домой, я сразу же садился за стол и переносил записи наших бесед на компьютер. Обязательно показывал ему, что у нас получилось. Генерал въедливо и подолгу читал, иногда редактировал, поправлял. Но в целом, как мне кажется, он был доволен. И постепенно созревал для работы над большой книгой.
Несмотря на болезнь, которая особенно в последние годы жизни просто замучила Соломатина, он много читал, следил за всеми новинками литературы о спецслужбах, вел архив газетных вырезок. При встречах первым делом спрашивал: «Ну, рассказывай, где был, что видел». Я добросовестно рассказывал о своих поездках по миру – Афганистан, Иран, Косово, Кавказ, Европа, Ближний Восток… До последних дней ему было интересно, что происходит на планете Земля. Выписал ему «Российскую газету», где тогда работал, – это был, наверное, самый строгий ее читатель, фальши не прощал, глупость различал сразу, все мерил с позиций государственных. Крупный был человек, хотя к концу жизни болезнь изъела его основательно. И очень правильный.
Как и другие порядочные люди, он с болью воспринимал тот тотальный развал, который царил в государстве, приход к управлению некомпетентных, алчных, мелких проходимцев. И в то же время, будучи умным, признавал, что прежняя власть, прежняя жизнь, прежние порядки тоже оказались несостоятельными, и жалеть о них не имеет смысла.
Кроме того, было у Бориса Александровича еще одно увлечение, о котором мало кто знал. Он серьезно занимался историей Великой Отечественной войны и даже писал серьезные статьи на эту тему. И опять-таки, как человек честный, всегда страшно возмущался, когда встречал в источниках факты откровенной фальсификации, примеры недобросовестного отношения к истине.
Кстати, сейчас, спустя много лет, я жалею, что эта грань его жизни не нашла достойного отражения в наших беседах. Тогда мне казалось, что важнее разговорить генерала на темы противостояния спецслужб в годы холодной войны.
Жили Соломатины, как я уже говорил, в довольно скромной квартире в Зоологическом переулке. Борис Александрович, Вера Михайловна, их дочь Ольга и внук Егор. Машины у них не было, зато была дача, о которой в семье любили вспоминать особенно зимой. Дача эта, неподалеку от Апрелевки, тоже на поверку оказалась скромной, хотя участок был большой, четверть гектара. Как-то я опрометчиво пообещал генералу, что, когда настанет весна, я лично отвезу его на дачу. И вот в начале июля он мне звонит:
– Ну как, ты готов держать свое слово? Давай в это воскресенье поедем? Ко мне сестра из Одессы приехала, шашлык сделаем.
– Я-то готов, но вот беда, нахожусь сейчас очень далеко от Москвы, в командировке от своей газеты.
Б.А., как мне показалось, явно расстроился. Похоже, что он много думал о нашей предстоящей поездке, связывал с ней какие-то надежды. А тут, получается, я его подвел.
Вернувшись в Москву, тотчас позвонил: «Борис Александрович, готов искупить свою вину в любое указанное вами время». Он поворчал немного, но быстро согласился принять мое предложение. И на следующий день я причалил на своем автомобиле к его подъезду. Он уже ждал на лавочке – в поношенном костюме, старых штиблетах, по обыкновению суровый. Вся его родня уехала в Апрелевку еще накануне. Он уселся на переднее сиденье и объявил, что сейчас устроит мне экзамен на вождение.
– Не волнуйтесь, генерал, – ответил я. – Доставлю вас в целости и сохранности, как национальное достояние.
Дачный поселок оказался в густом лесу, состоящем из вековых дубов, старых елей и берез. Соломатинский участок был в глубине, заросший, диковатый и вместе с тем очень уютный.
– Я купил его в начале 1970-х у одного генерала. Им, воякам, Сталин после войны давал по полгектара, – объяснил Б.А. – Тот генерал разделил свои полгектара пополам и скромный домик тоже пополам, и вот так нам досталось это богатство.
Богатством были половина крошечного домика из двух спаленок и маленькой веранды и двадцать пять соток земли.
Б.А. с гордостью водил меня по своим владениям, показывал старые яблони, посаженные им самим клены, каштан, орех. Уже дымился костер и почти готовы были угли. Вера Михайловна колдовала с шампурами. Егор, счастливый от того, что приехал дед, повел меня в угол участка, где был выкопан пруд. Мы сорвали с грядки два первых в этом году огурца. Часов в одиннадцать Б.А. говорит: «А почему мы до сих пор по рюмке не выпили? А ну, пошли». Я откупорил привезенный с собой джин. Разлили, слегка разбавили тоником, выпили.
Я пытался фотографировать генерала, но получалось плохо. Едва завидев наведенный на него объектив, он делал такое свирепое лицо, что всякое желание нажимать на спуск пропадало.
– Улыбнитесь же! – умолял я его. Бесполезно.
– Я не народный артист, чтобы улыбаться, – неизменно отвечал Соломатин и для ясности подпускал свой обычный матерок. – Никогда не улыбался специально, по чьей-то просьбе. Не умею.
Егор слегка подтрунивал над дедом, обращаясь к нему: «классик разведки», «волкодав», но делал это не обидно, а, напротив, с подчеркнутым уважением, с явной любовью. Я давно обратил внимание на то, что он называет Б.А. «папой», а бабушку – Верой.
Хорошо мы посидели. Шашлык удался. Сам хозяин дачи и его супруга налегали на джин. Я пропускал, потому что был за рулем. Сидели на лавочках под сенью деревьев. Беседовали о разном.
Наши беседы и легли в основу этой книги. В основном они проходили в промежутке с осени 2003 по конец 2005 года.
Глава 1
Пришел, увидел, полюбил
– Расскажите, как вы пришли в Первое главное управление?
– Перед войной мы жили в Ростове. Отец был офицером, командиром бригады. Потом, когда немец к Дону близко подошел, эвакуировались в Тбилиси. Там летом 1942-го окончил десятилетку и, не дожидаясь повестки из военкомата, сам пошел в артиллерийское училище.
Мама Варвара Васильевна, истинно русская, советская женщина, меня до ворот училища проводила и благословила, всегда я об этом помнил. Так началась моя самостоятельная жизнь. В январе 1943-го после ускоренного шестимесячного обучения меня направили под Тулу в мотострелковый полк – командиром взвода управления батареи полковой артиллерии. Я должен был находиться в передовых порядках войск, давать целеуказания. Участвовал в Курской битве, потом воевал в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, Германии. Закончил войну на острове Рюген – это самая северная точка рейха. Был тогда старшим лейтенантом, заместителем командира отделения разведки полка.
Две контузии, но ранен не был, тут судьба меня сберегла.
После войны демобилизовался и приехал в Москву, где жила тетка, хотел поступать в МГУ на исторический. Но знакомая моего сослуживца (она преподавала иностранный язык в МГИМО) предложила попробовать пойти туда. В те годы этот институт еще не стал инкубатором для блатных, фронтовиков брали охотно.
После того как я получил диплом о высшем образовании, поступило предложение поехать по линии МИД на курсы атташе в Пекин, для чего требовалось выучить этот тарабарский язык. А я знал английский. Да и мидовская карьера по китайской линии меня не очень прельщала: по своему складу терпеть не могу людей, которые все время улыбаются. Меня от таких людей тошнит.
Тут вокруг какая-то возня затеялась, разговоры пошли: не хотели бы вы попробовать себя на новом поприще? То, се… Я быстро понял, о чем идет речь и согласился. Так оказался в разведшколе Комитета информации при Совмине – так тогда называлась внешняя разведка.
Там начали распределять по языкам. В МГИМО преподавали английский, а я до армии немного немецкий знал – еще со школьных времен. Но направили меня, как ты думаешь, куда? На японский! Ты представляешь! И вот целый год я его зубрил. И распределили после окончания разведшколы в 1-й отдел 4-го управления, которое занималось Азией. Мы там сидели и пересматривали агентурные дела тех японцев, которые были завербованы в наших лагерях, то есть военнопленных. Сам понимаешь, какая цена этим агентам была. Да никакая! Просидел так год, а затем меня в другой отдел перевели, на Индию стали готовить.
И вот первая заграничная командировка. Из Москвы вылетел зимой в самолете «Ил-14». Ты помнишь, что это за самолет?
– Конечно. Я на таких много на севере летал. Десятки часов. И на Полюс, и по островам.
– Вот-вот. В Москве стоял лютый мороз. До Ташкента летели со множеством посадок. Потом – Кабул. Здесь надо было ждать самолета индийской авиакомпании на Дели. Сижу, жду. Неделя прошла, а самолета нет. Кстати, в Кабуле я впервые западные сигареты попробовал, помню, это был «Кэмел». Еще помню, что в нашем посольстве туалет тогда был с удобствами на улице. Просто дырки в земле. Сейчас-то, наверное, изменилось все там? Ты же в Кабуле работал, скажи…
– Не особенно. После талибов опять надо все начинать сначала. Хороший был комплекс, но эти дикари все сожгли и разрушили.
– Короче, не дождался я самолета и отправился в Индию на автобусе через Пакистан. Долго ехали.
– А в Индии, в той первой командировке, у вас были результаты?
– Да, и неплохие. Резидент сразу определил, как меня использовать, дал на связь агента из местной спецслужбы. Я с ним хорошо сработался.
– Интересно. Расскажите, как проходили ваши контакты?
– Очень просто. Мы заранее обговаривали место встречи, я приезжал туда на автомобиле с оперативным шофером, агент к нам подсаживался, мы ехали по заранее проработанному маршруту и беседовали.
Короче говоря, та первая длинная командировка закончилась для меня вполне благополучно, и спустя два года я с хорошей характеристикой вернулся домой.
В Москве меня как перспективного сотрудника направили на годичные курсы усовершенствования. Второй раз поехал в Индию в 1961-м и уже резидентом. Там толковые ребята тогда подобрались, хорошо мы сработали. Просто чудеса иной раз творили. Ну, например, заместитель министра был завербован, начальник департамента МИД, другие заметные фигуры. Но и обстановка, надо признать, тогда для нас сложилась благоприятная, с точки зрения контрразведывательного режима.
– Расскажите, а как вы этих людей цепляли? На чем? Компромат? Деньги? Симпатия к СССР?
– Только на материальной заинтересованности. Они любили деньги, были не очень избалованы. К заместителю министра я обычно приезжал с ящиком виски – этого было достаточно, чтобы его взбодрить. Чиновник был тогда очень полезен, ведь шли боевые действия между Индией и Китаем. Еще помню одного парня, местного журналиста, шустрого, с большими связями. Он был вхож повсюду. Мы помогли ему создать и поставить на ноги свой журнал. Он стал помогать нам: рекомендовал кандидатов на вербовку, сам делал подходы к интересным людям.
– Это правда, что Индира Ганди была нашим агентом влияния?
– Агенты влияния… Хм… Такой термин есть и его очень активно использовал ваш брат, журналист, в поздние перестроечные годы. Ну ты понимаешь, о чем и о ком я говорю…
– Александр Николаевич Яковлев?
– В частности и о нем. Крючков убеждал Горбачева, что Яковлева американцы подцепили еще в годы его стажировки в Колумбийском университете. Однако, посидев в следственном изоляторе, Крючков отчего-то в дальнейшем уже не поднимал этот вопрос. Темное дело.
Теперь о том, кто такие агенты влияния. Это крупные деятели, которые могут принимать важные политические решения, выгодные для тех, кто имеет с ними дело. Но практически никогда здесь речь не идет о классической вербовке. Такие агенты (если их вообще можно назвать «агентами») возникают на почве идеологической близости или совпадения интересов в какой-то определенный период или в какой-то определенной ситуации. Лично я не верю в завербованных агентов влияния.
Взять ту же Индиру Ганди. Мне приходилось неоднократно общаться с ней. Ну и что? У нас совпадали многие взгляды на серьезные внешнеполитические проблемы, нам было выгодно то, что она делала на посту премьер-министра, а ей, в свою очередь, шло на пользу то, что делали мы. Агентом влияния ее мог назвать тот, кто хотел выхлопотать себе орден.
– Но где-то я читал, что на поддержку ее политической партии КГБ выделил десять миллионов долларов – огромная по тем временам сумма…
– Ну, во-первых, не КГБ, а советское государство и в первую очередь ЦК КПСС. Мы выступали лишь курьерами в передаче денег. А во-вторых, это была обычная практика: Москва материально поддерживала своих союзников, американцы – своих. Думаю, что американцы выделяли гораздо больше денег на подобные цели. Во всяком случае, знаю по опыту своей работы в Италии, сколько они тратили на то, чтобы не допустить к власти компартию.
Заканчивая про Индию, хочу подчеркнуть, что это была для меня хорошая школа. Большое государство, крупная резидентура, обширное поле деятельности.
Когда я вернулся из Дели, меня перевели в американский отдел и стали готовить к поездке в Вашингтон. Мой прежний начальник по азиатским делам отговаривал: «Куда ты идешь? Там чужаков не терпят, быстро тебе рога обломают. А у нас ты в полном порядке, через пару лет станешь начальником отдела вместо меня». Но я о карьере не думал, хотелось интересной боевой работы, а где ее еще искать как не в Штатах – там ты лицом к лицу с главным противником. Но сначала я в «короткую» туда съездил – надо было проверить, как американцы на меня отреагируют.
– Ну и как они отреагировали? Они знали, кто вы есть на самом деле?
– Знали. Сто процентов. Еще в Индии меня вывели поработать с одним англичанином, якобы журналистом, который оказался подставой. Он наверняка меня сдал.
– Знали и все же дали вам визу, разрешили работать?
– Так часто бывало. Контрразведке любой страны проще, когда наш сотрудник уже выявлен, не надо гадать, шпион он или нет.
– У вас, Борис Александрович, как я знаю, много учеников. А кого вы сам считаете своим учителем? Был такой человек?
– Конечно, был, – суровое лицо Б.А. сразу разгладилось. – Дядя Вася. Василий Иосифович Старцев. Вот о ком бы книгу писать. Выдающийся человек! Когда я начинал, он возглавлял 7-й отдел Первого главного управления, который отвечал за Южную и Юго-Восточную Азию. До этого работал в Монголии и Югославии.
Ты ведь, наверное, знаешь, что наше начальство было скуповато на государственные награды. Редко кто медали или ордена удостаивался. А дядя Вася имел полный иконостас: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды… При нем тот обширный участок земного шара – от Японии до Ирана – был нами плотно освоен: крупные вербовки, важная информация, активные мероприятия… И ни одного случая предательства!