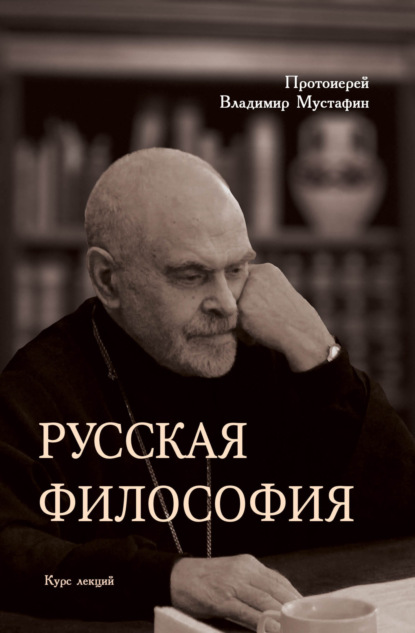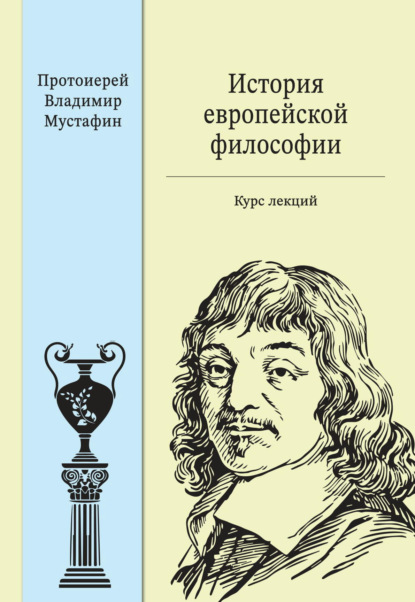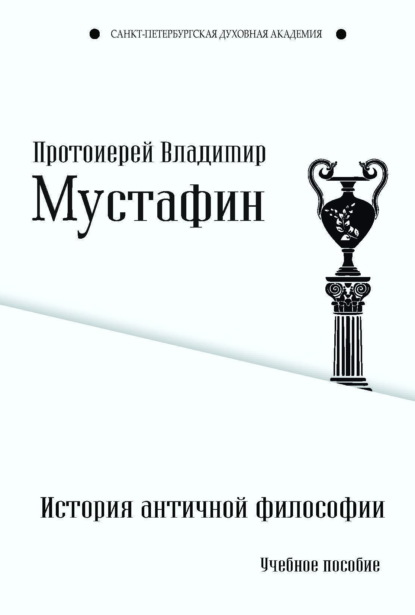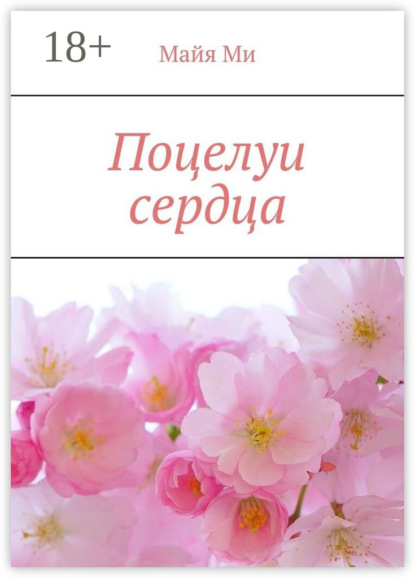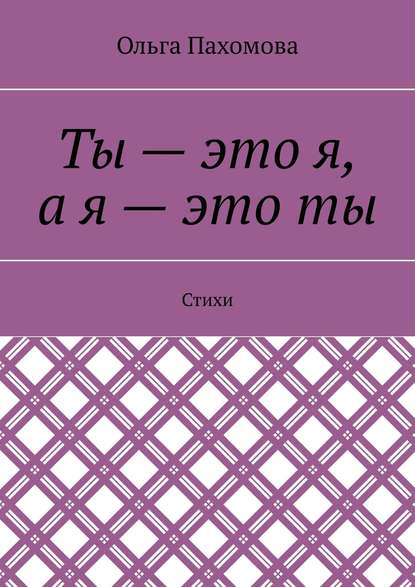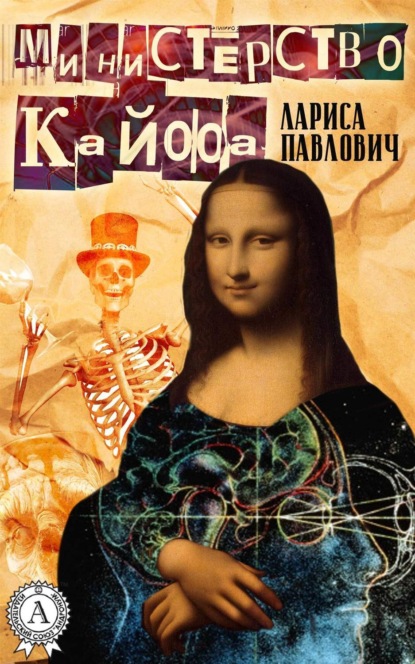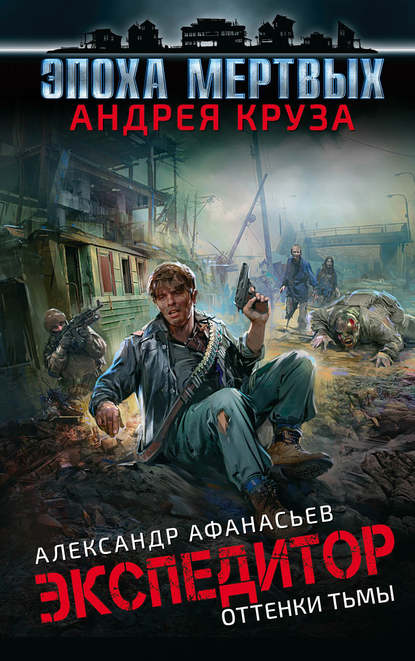История европейской философии в Новое время
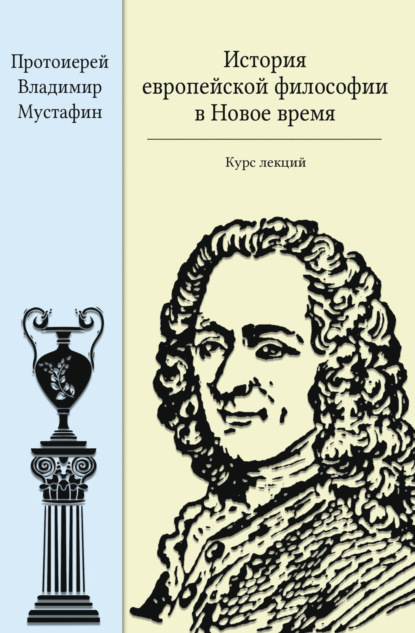
- -
- 100%
- +
4
По мнению Гоббса, как известно, традиционная религия полезна именно своей полицейской функцией – удерживать необразованных обывателей от общественных беспорядков. Дескать, если невежественного обывателя от общественных беспорядков может удерживать только вера в Бога, то поэтому эта вера и может быть официально поддерживаема правящей элитой общества, но, при этом, сама элита в силу своей образованности религиозную веру всерьез вовсе принимать не обязана.
5
Правда, в окончательном варианте мировоззрения самого Вольтера положение о необходимости религиозной надежды на оптимальное посмертное существование души, обеспечиваемого надлежащим нравственным поведением в земной жизни индивида, отсутствует. Но тут то все понятно: если отвергается само понятие о бессмертии души, то тем самым лишается смысла вопрос о её судьбе после телесной смерти индивида.
6
Так рассуждал, например, Болингброк (1678–1751), английский аристократ-политик, в философии последователь Локка, т. е. сенсуалист и деист. Для него свободомыслие, т. е. право самостоятельно размышлять на мировоззренческие темы (темы, выходящие за пределы обычной, повседневной практической жизнедеятельности) есть привилегия высших слоев общества. Для низших же слоев общества мировоззрение определятся традиционной религией. И пусть традиционная религия для свободномыслящей элиты есть предрассудок, отсталость и невежество, но дискредитировать традиционную религию в глазах невежественной публики недопустимо, потому что тем самым у этой публики отнимается мировоззрение, поддерживающее относительное спокойствие и порядок в обществе, а, значит, такая дискредитация традиционной религии в будущем неизбежно приведет к расшатыванию и разрушению общественного порядка. Совершенно очевидно, что Болингброк в этом своем рассуждении повторяет мысли, до него сформулированные Гоббсом.
7
В этом рассуждении нет никакого объяснения происхождения органической материи из неорганической. Если это рассуждение понимать буквально, то оно просто есть абсурд. Сколько ни нагревай, например, какой-нибудь кусок металлолома, организма из этого куска не получится. Поэтому естественно предположить, что если это рассуждение должно содержать в себе какой-то смысл (исходя из убеждения, что такой выдающийся мыслитель, каким был несомненно Дидро, не мог же словесно формулировать очевидный вздор), то этот смысл в этом рассуждении хотя и не обнаруживается явно, но, тем не менее, содержится в виде некоего подразумеваемого дополнительного умствования. Но если это так, если объяснение лишь подразумевается, но не обнаруживается должным образом, как положено всякому логическому объяснению, то, строго говоря, и нельзя констатировать, что объяснение вообще состоялось как необходимая логическая операция. Своим рассуждением Дидро лишь утверждает, что органическая материя сама собой происходит из неорганической, но надлежащего объяснения этого происхождения не предлагает. Конечно, всякое объяснение непременно предполагает предварительное утверждение (или отрицание) какого-либо положения. Но это предварительное утверждение (или отрицание) без последующего объяснения теряет смысл, ибо объяснение есть вид аргументации (или необходимая предварительная стадия последующей аргументации), а без надлежащей аргументации любое суждение, положительное или отрицательное, лишается познавательной ценности, лишается смысла.
8
Что на первый взгляд кажется странным. Ведь английские философы – эмпирики, чью сенсуалистическую гносеологию французы и переняли, представили исчерпывающе тщательный критический анализ сенсуализма. А современник Гольбаха Юм (1711–1776) даже и сформулировал, как известно, безапелляционно окончательный вывод относительно познавательной ценности сенсуализма. Почему же Гольбах не вспомнил этот анализ? Да в том то и дело, что окончательный вывод Юма о познавательной ценности сенсуализма был предельно скептическим. Никакого строго научного знания органы внешних чувств предоставить не могут. Суждения, сформулированные на основании свидетельств органов внешних чувств, не суть суждения истины, а суть вероятностные суждения, «верования». Вот, чтобы избежать этого скептицизма относительно сенсуалистической гносеологии, Гольбах и проигнорировал всякую её критику и тем самым определил отношение к этой теории, как к безусловно единственно истинной.
9
В подробностях ход мыслей Гольбаха можно изложить в следующем виде. На самом деле причина всех изменений в человеческом теле и во всей природе одна – воздействие друг на друга движущихся предметов, комбинаций мельчайших материальных элементов-корпускул. Это воздействие легче и удобнее всего представить в виде непосредственного соприкосновения, т. е. в виде толчка. (Мысль о воздействии друг на друга фрагментов материи на расстоянии, через метафору «притяжения», в XVIII веке принималась во Франции далеко не всеми, ибо влияние Декарта, отрицавшего действие материальных предметов друг на друга на расстоянии как бессмыслицу, было ещё очень сильным даже среди эмпириков.) Но иногда некоторые из сталкивающихся материальных предметов оказываются незаметными для фиксации органами внешних чувств. Например, соприкосновение воздуха с деревьями. Результат соприкосновения потока воздуха, ветра, с деревом очевиден, но сам то поток воздуха невидим. Однако воздух есть реальность всё же материальная. Следовательно, сама невидимость материальной реальности не есть доказательство её отсутствия.
10
Этот постулат противоречит материализму. Если ничего, кроме материи, не существует, а всё материальное, по непоколебимой аксиоме материализма, безлично и не обладает самостоятельностью действия, то откуда взялась самостоятельность действия у мозга, способного якобы что-то самостоятельно производить и, к тому же, способного это свое производство само осознавать, у мозга, вполне себе материального предмета, пусть даже и сложно сконструированного? Ответить на этот вопрос последовательно мыслящему материалисту невозможно. Поэтому приходиться просто постулировать положение, создающее иллюзию логического объяснения, хотя на самом деле никакого логического объяснения здесь нет. А есть постулат, косвенно опровергающий сам онтологический материализм. Кстати сказать, и другие способности души, кроме мышления, у Гольбаха тоже ведь, строго говоря, логически не объясняются. Как можно принять толкование эмоций как естественных мотивов для стремления тела к предметам, полезным для этого тела, и отвращения от предметов, вредных для этого тела? Откуда у тела, состоящего из одной только материи, появились категории «полезное» и «неполезное» в качестве мотивов для своих собственных движений? То же самое и относительно актов воли. Если акты воли суть следствия состояний мозга, которые стимулируют движения индивида для достижения удовольствия и уклонения от страданий, то как в мозгу, фрагменте материального тела, категории «удовольствие» и «страдание» оказались? На эти вопросы логически полноценных ответов нет.
11
Несмотря на то, что в этом со времени Гольбаха постоянно повторяющемся рассуждении детерминистов почти сразу чувствуется вздорный его характер, на практике не сразу получается найти ему логически выверенное опровержение. Надо предварительно выяснить, какая логическая ошибка (или софистическая уловка, т. е. та же ошибка, но производящаяся намеренно) здесь содержится. А ошибка здесь вполне заурядная – «ignoratio elenchi», модификация «mutatio elenchi» (= «подмена тезиса»). Состоит она в том, что доказывается или опровергается вовсе не то положение (= тезис), которое при начале обсуждения было провозглашено, как нуждающееся в доказательстве или опровержении, а по существу другое положение (= тезис). Гольбах доказывает отсутствие свободы воли у человека при осуществлении им своих поступков констатацией самого факта наличия у этих поступков предварительно сформировавшихся мотивов (= намерений) совершить тот или иной поступок. Подразумевается в качестве несомненной истины положение, что наличие мотива у поступка исключает свободу осуществления поступка. Но если бы даже это подразумеваемое положение и признать в качестве истины, то нельзя не заметить, что его употребление в качестве аргумента против признания свободы воли у человека лишено смысла. Ведь свобода воли человека как раз и есть способность осуществлять человеком поступки, соответствующим его желаниям и намерениям, которые и суть мотивы поступков. Доказать свободу воли у человека значит доказать его способность действовать согласно его желаниям и намерениям, т. е. мотивам. Доказать отсутствие свободы воли у человека – значит доказать неспособность человека действовать соответственно своим желаниям и намерениям, т. е. мотивам. Вот в чём сущность проблемы свободы воли человека. И в этом вполне осознанном нежелании Гольбаха решать вопрос о свободе воли в традиционной его постановке всё и дело. Что можно наговорить на ту тему, которая предлагается взамен традиционной постановке вопроса о свободе воли, это даже и не имеет особого значения. Лишь бы это письменно изложенное говорение было достаточно многословным, для демонстрации богатства мыслей, якобы в предлагаемом тексте заключенном, достаточно туманном, для убеждения обывателя-читателя в какой-то особой глубине мыслей, скрывающейся якобы за этими малопонятными словосочетаниями, но, при этом, чтобы вывод из всего этого умствования был непременно отрицательным – никакой свободы воли у человека нет. Однако даже если отнестись ко всему этому умствованию с методологической серьезностью, то есть попытаться проанализировать его содержание, хотя и сознавая вместе с тем, что оно, это умствование, уводит внимание от самой проблемы свободы воли при правильной её постановке, то оказывается, что анализ всего этого умствования выясняет, что логической связи между конечным выводом этого умствования и предваряющим этот вывод рассуждением нет. Ведь основной аргумент Гольбаха для отрицания свободы воли состоит из двух положений: 1) наличие мотива для каждого практического поступка (а свобода воли возможна де только при отсутствии мотива), 2) мотив у человека всегда только один – выгода конкретного индивида (а свобода воли предполагает наличие нескольких мотивов, выбор одного из которых и доказывает наличие свободы воли у индивида). То есть, с одной стороны против свободы воли говорит само наличие мотивов у человека как определителей поступков, а, с другой стороны, против свободы воли говорит то, что этих мотивов у человека слишком мало, всего только один мотив, выгода. Что касается последнего, т. е. указания на то, что мотив для определения предстоящих поступков у индивида только один, выгода, то это указание есть просто намеренное введение в заблуждение читателя. Мотив действительно только один, но содержание этого мотива неисчерпаемо велико. Слово «выгода», на каком бы языке оно ни писалось, здесь явно не уместно. Подходит совсем другое слово для обозначения этого мотива – «счастье». Именно это слово ещё со времени возникновения европейской философии в античной Греции стало основной категорией в философской этике – «эвдемония». И с тех пор все философские (в противопоставлении религиозным) этические теории, включая «утилитаризм», строятся на основании этой категории. Да это и естественно, ибо все люди стремятся в своих поступках достичь счастья или хотя приблизиться к нему. Счастье, конечно, понимается по-разному, но во всяком случае под счастьем непременно подразумевается лично свободное обнаружение своей индивидуальной сущности. Так что усмотреть в стремлении к счастью что-то унижающее человеческую природу, что то препятствующее свободе раскрытия личности индивида есть очевидное недоразумение. Что касается первого положения Гольбаха в его аргументации против свободы воли, а именно его утверждения, что свобода воли невозможна, так как наличие в душе человека мотивов для осуществления практических действий само по себе есть неопровержимое свидетельство против признания свободы воли у человека, то это утверждение есть просто абсурд, совершенно бесполезный для обсуждения.
12
Может быть натурализм и без материализма. Например, пантеизм, в котором материальная и духовная субстанции признаются неотъемлемыми составными частями единого целого – природы.
13
Здесь следует заметить, что подобные рассуждения не являются плодом естественно-научного знания, а потому предлагать их в качестве строго научного знания, опровергающего дескать религиозные суеверия, нельзя. Эти рассуждения имеют очевидный философско-метафизический характер. А метафизика категорически противопоказана естественной науке. Естественная наука имеет дело исключительно только с фактами, фиксируемыми органами внешних чувств в предметно-чувственном мире. «Материю» же, которая утверждается материалистами единственной основой всего предметно-чувственного мира, никто никогда не воспринимал ни одним из органов внешних чувств. Это чисто метафизическое понятие.
14
Подобное объяснение происхождения этических категорий «добра» и «зла» уж слишком упрощено и именно по этой причине, а вовсе не потому, что оно противоречит религиозному объяснению, мало убедительно. Каждый человек, начиная с младенческого возраста, конечно, инстинктивно, т. е. не отдавая себе в этом отчета, стремится к удовольствию и старается избежать страдания. Но «удовольствие» и «страдание» – это отнюдь не синонимы «добра» и «зла». А ведь проблема происхождения относится именно к категориям «добра» и «зла». Естественное объяснение их происхождения не получается до сих пор. Основная причина неубедительности естественного объяснения происхождения категорий «добра» и «зла» состоит в том, что эти категории предстают в самом начале культурной жизни людей уже вполне логически сформированными и зафиксированными в письменных текстах. То есть, эти категории можно было усвоить только через процедуру изучения. Но как они попали в изучаемые тексты? Любой ответ в духе естественного объяснения невозможен. Естественное объяснение исходит из незыблемой предпосылки, что древние люди были в культурном отношении малоразвитыми и поэтому составлять сложные мысли, прежде всего понятия и категории (в том числе и, даже, прежде всего категории «добра» и «зла») не могли. Но в религиозно-метафизических древних текстах эти категории все-таки оказались. Объяснение может быть только через привлечение понятия «сверхъестественного откровения». Категории «добро» и «зло» были даны людям из источника, находящегося вне естественной среды человеческого общества. А это и есть тот источник, который в религии называется «божественным откровением».
15
В подборе фактов, подтверждающих несомненное влияние состояний тела на состояние души человека, Ламетри действительно проявил личную и профессиональную наблюдательность. Но при этом он намеренно не обратил внимания на факты обратного влияния – влияния душевных состояний на телесные. А такие факты были хорошо известны и в те времена и употреблялись защитниками религиозной антропологии в подтверждение онтологической самостоятельности души. Характер таких фактов состоит в том, что душевное состояние индивида испытывает воздействие со стороны душевного состояния другого индивида, а затем душевное состояние, подвергшееся воздействию, в дальнейшем, в свою очередь, воздействует так или иначе (в лучшую или худшую сторону) на свое тело. Или какое-либо происшествие в бытовой жизни индивида прямо воздействует не на его тело, а на его душу, а затем изменившееся под воздействием происшествия душевное состояние индивида действует и на его собственное тело.
16
Влияние Декарта на Ламетри вообще было более сильным, чем можно было бы предполагать, сравнивая общие характеристики их философских взглядов. Декарт – рационалист в гносеологии, дуалист в онтологии и философский защитник религии. Ламетри, соответственно, – сенсуалист, материалист и атеист. Казалось бы, что тут может быть общего? Но Ламетри нашел пункт, в котором, по его мнению, философия Декарта косвенно поддерживает онтологический материализм. Пункт этот – учение Декарта об исключительно только механическом характере движения материальных фрагментов в пространственно-чувственном мире. Целесообразность, фиксируемая в предметах этого мира, есть результат абсолютно случайного сцепления механически двигающихся фрагментов материи. Никакой целесообразности в религиозно-телеологическом смысле (целесообразность как результат реализации проекта Бога о будущем предмете в самом предмете) Декарт в предметно-чувственном мире не усматривает. Здесь Декарт рассуждает действительно как онтологический материалист. На это и обратил внимание Ламетри. По его мнению, Декарт философствовал недостаточно последовательно. А если бы последовательность была бы проявлена в должной степени, то тогда де Декарт и явил бы себя тем, кем он был на самом деле – материалистом. Это, конечно, намеренное введение в заблуждение. Декарт не мог быть онтологическим материалистом хотя бы по той простой и всем хорошо известной причине, что в онтологии он был принципиальным дуалистом, т. е. признающим обе онтологические субстанции – материальную и духовную. Такая онтология типична для религиозного мировоззрения. Кроме того, Декарт был религиозным мыслителем, чье доказательство бытия Бога, модификация онтологического доказательства, стало хрестоматийным. Поэтому быть атеистом Декарт никак не мог. А ведь именно атеизм как неизбежное следствие последовательного онтологического материализма был истинной целью всего просвещенческого материализма во Франции в XVIII веке. Что касается утверждения Декартом механистического характера движения материи в пространственно-чувственном мире, то это утверждение было не следствием какой – то тайной приверженности онтологическому материализму (как инсинуировал Ламетри, Декарт был материалистом, но скрывал это «из-за боязни попов»), а следствием поддержки им естественно-научного метода изучения физической природы, который, метод, состоит в том, чтобы рассматривать внешнюю природу в соответствии с её материальной сущностью, а материальная сущность сама по себе, действительно, не может представляться иначе, как быть скопищем каких-то элементов, хаотично-механически сталкивающихся друг с другом. Порядок и целесообразность в этот материальный мир привносится другим фактором – вселенским разумом Бога, это так. Но сам по себе материальный мир беспорядочен. В нем только хаос, случай и механические толчки инертных фрагментов материи.