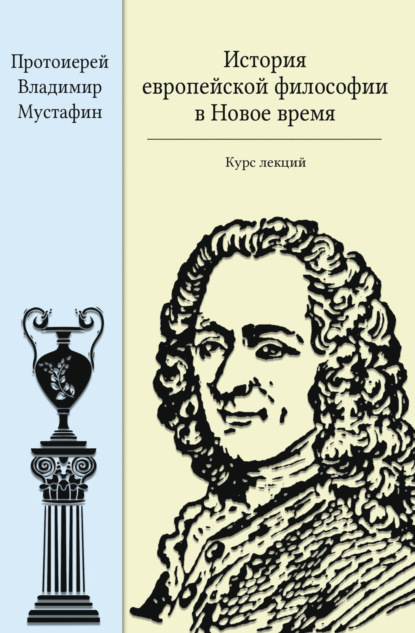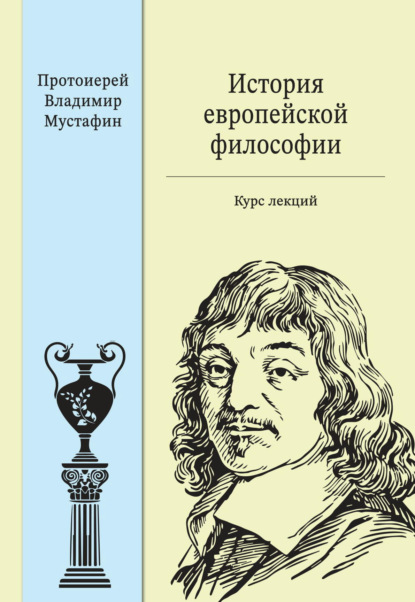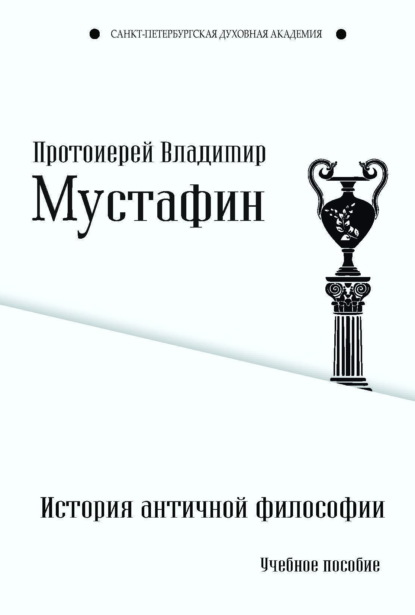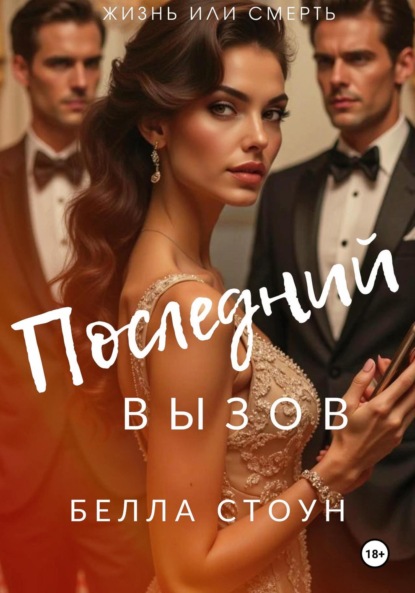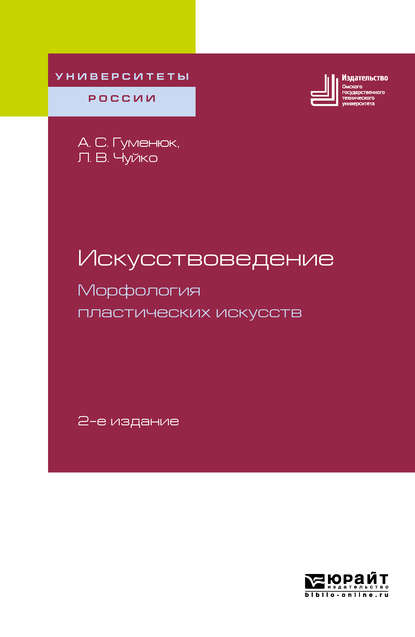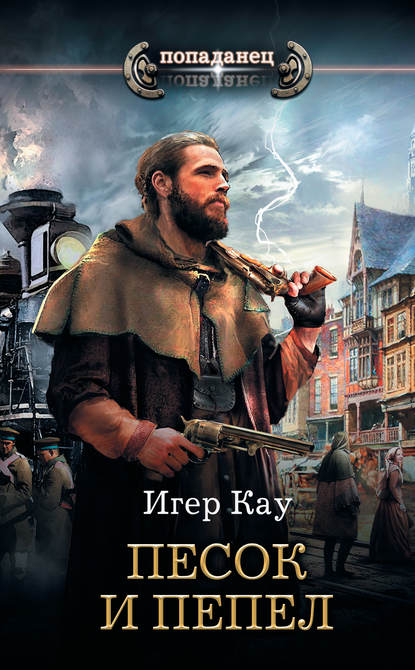Русская философия
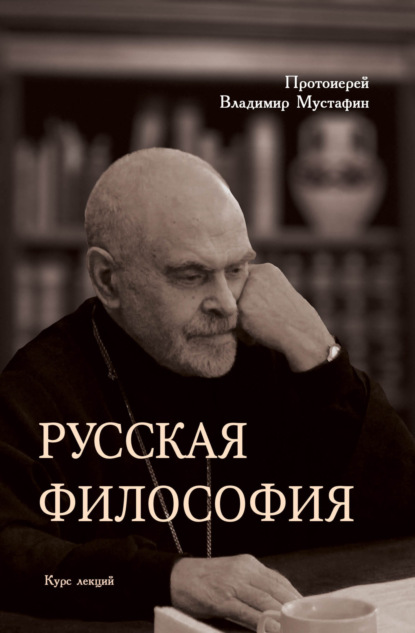
- -
- 100%
- +

© Мустафин В. Ф., прот., 2025
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2025
* * *
Издание осуществлено при поддержке храма Сретения Господня на Гражданском проспекте г. Санкт-Петербурга. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии благодарит настоятеля храма иерея Димитрия Лушникова и почетного настоятеля того же храма протоиерея Георгия Полякова за помощь в подготовке данной книги.
Рекомендовано Учебным комитетом Русской Православной Церкви
Решение № 10/137 от 26.03.2025 г.
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р25-506-0139
Рецензенты:
Дмитрий Викторович Шмонин
– доктор философских наук, профессор, директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета, проректор по научной работе Российского православного университета св. Иоанна Богослова.
Дмитрий Игоревич Макаров
– доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.
Игорь Борисович Гаврилов
– кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии.
Часть первая. Историография русской философии
Архимандрит Гавриил (Воскресенский; 1795–1868)

Первым историком русской философии можно считать архимандрита Гавриила (Воскресенского; 1795–1868). В 1840 году в Казани, в тамошней университетской типографии было напечатано его сочинение «История философии», содержанием VI-ой части которого как раз и стала «Русская философия». «Каждый народ имеет свой особенный характер, отличающий его от прочих народов, и свою философию, более или менее наукообразную, или по крайней мере рассеянную в преданиях, повестях, стихотворениях и религии»[1], – убежден архимандрит Гавриил[2].
Рассматривая различные национальные философии («израильскую» в древнем и современном её вариантах, «восточную», «греческую», «римскую», «германскую», «итальянскую», «испанскую», «португальскую», «английскую») и давая им соответствующие характеристики, архимандрит Гавриил указывает на своеобычный характер русской философии, который определяется следующими оригинальными особенностями русского национального характера: «Россиянин до бесконечности привержен к вере, престолу и отечеству, послушен, нерешителен и даже недеятелен там, где подозревает какое-либо зло от поспешности, трудолюбив, непобедим в терпении, рассудителен»[3]. Из таких особенностей русского национального характера архимандрит Гавриил делает вывод, что по отношению к любомудрию (т. е. философии, в данном случае понимаемой как гносеология) отличительный характер русского мышления есть «рационализм, соображаемый с опытом»[4]. В доказательство такой особенности гносеологии русской философии архимандрит Гавриил приводит некоторые русские поговорки: «Свой ум – царь в голове», «Хорош ум, а два лучше», «Без ума торговать лишь деньги терять», «В большом месте сидеть – много ума иметь»[5].
В обоснование своего утверждения, что кроме рационализма русская философия признает и опыт (т. е. органы внешних чувств) источником истинного знания, архимандрит Гавриил приводит такую русскую народную поговорку как «Чего не видишь, о том и не бредишь» (= рассуждаешь). А также ту склонность русского человека, согласно которой он, русский, слыша какие-либо «высокоумные» речи какого-либо теоретика-говоруна – речи, противоречащие обычному здравому смыслу, т. е. опыту, – отвечает следующими поговорками: «Хорошо говорит, а послушать нечего», «Порет высоко, а ничего не поймешь», или, иронично, «Мы люди темные, мы ничего тут не видим». В этих и подобных русских поговорках содержится практическая мудрость, накопленная естественным здравым смыслом, а здравый смысл, чаще всего даже и безотчетно, основывается на доверии к свидетельству органов внешних чувств и, следовательно, к тому знанию, которое к человеку через эти органы внешних чувств поступает. А это и есть сущность гносеологического эмпиризма (= сенсуализма). По сути дела, то, что на книжном языке называется эмпиризмом (= сенсуализмом), есть синоним обычного здравого смысла.
Истинность русских поговорок, в которых выразилась не только практическая мудрость русского народа, но и его философия, т. е. мировоззренческие убеждения, подтверждается и историей русского народа. Для иллюстрации этого архимандрит Гавриил обращается к рассмотрению и оценке древней русской языческой религии. Эта древняя славянская религия носит в основных своих вероучительных (= метафизических) положениях вполне серьёзный и назидательно-высокий характер. Есть единый, верховный и истинный Бог, создатель всего предметно-чувственного мира и мира духовного. Называли этого Бога предки русских Белым Богом. Ему не строили храмов, исходя из того убеждения, что смертные люди не смеют и не могут иметь с Ним никакого общения. Не приносили Белому Богу древние славяне-русские и никаких жертв, ибо, по их убеждению, истинный Бог выше всякой вещественной жертвы. Не было у Белого Бога и жрецов, ибо по убеждению древних славян-русских, истинному Богу могут служить только этим Богом сотворенные добрые духи, хранители и защитники нравственной чистоты, невинности, милосердия, гостеприимства, храбрости и прочих естественно понимаемых добродетелей. Для объяснения происхождения зла в сотворенном единым и истинным Богом мире у древних славян-русских имелась вполне глубокомысленная теория, сущность которой в следующем. Истинный Белый Бог, сотворивший всё в этом мире добрым, сотворил и особое духовное существо, которое в иерархии добрых духов занимало место, едва ли не наиболее приближенное к самому Белому Богу. Но это существо самовольно отпало от Белого Бога и стало противополагать себя ему. Так произошло зло, а сам основатель зла назван был в древнеславянской религии Чернобогом. У него оказались помощники в различных областях естественного мира – на земле, в воде, в воздухе, в лесах, в жилых домах, – которых в ту языческую эпоху древние славяне-русские называли ведьмами, кудесниками, ворожеями, лешими, водовиками, русалками, лешими, домовыми и т. п. Древние славяне-русские имели вполне определенное понятие о будущей жизни, в которой верные последователи доброго Белого Бога будут находиться в радостном общении с ним и с его духовными служителями, а вольные или невольные пособники зла окажутся в общении с Черным Богом и его помощниками. Смерть толковалась как разлучение души и тела. Относительно судьбы тела было даже упование на его воскресение в (эсхатологическом) будущем. Эта языческая религия предполагала, что смысл истории состоит в конечной победе добра над злом, победе Белого Бога над Черным Богом[6].
Как бы ни относиться к этой древнеславянской религии, но одного у неё в любом случае не отнять, – её серьёзного характера, при котором все вопросы мировоззрения, вытекающие из основного вопроса о смысле человеческой жизни, получили основательные ответы, составившие практически полную систему религиозного мировоззрения, способную определить культурную индивидуальную и общественную жизнь человека. Для сравнения можно вспомнить т. н. олимпийскую религию древних греков, в которой жизнь богов изображалась в виде непрестанных пиршеств, распрей, эксцессов зависти, ревности, мести. Никакого ни умственного, ни нравственного культурного назидания такая религия произвести не могла в силу своего очевидного мировоззренчески несерьезного характера.
Значительное место в истории русской философии архимандрита Гавриила уделяется изложению материала, который, как уже было отмечено, с привычной точки зрения вообще не имеет никакого отношения к русской философии и её истории. Например, с 10-й по 17-ю страницы сочинения подробно излагается содержание чувашской национальной языческой религии и описываются различных народные чувашские обычаи, с этой религией связанные. Делается это, по-видимому, для того, чтобы показать, что не только русский народ, но и другие народы России обладали каждый своим оригинальным религиозным мировоззрением, а, значит, и философией, это мировоззрение фиксировавшее в соответствующей религиозной метафизике. Ведь, для напоминания: философия есть метафизика, а метафизика есть существенная часть любой религии.
Далее архимандрит Гавриил пускается в исторические рассуждения, основой которых служат даже не строгие исторические документы, а всего лишь некие беллетризованные предания, которые тоже к истории русской философии довольно трудно отнести. Это, например, рассуждение на тему «избрание веры при князе Владимире» на страницах 17–19. В чем смысл? Всё в том же: по убеждению архимандрита Гавриила, при избрании веры русский народ проявил свою приверженность разуму и здравому смыслу (= эмпирически приобретенному знанию), которая, эта приверженность разуму и опыту, составляет отличительную особенность русской философии. Правда, в заключение своего повествования о принятии православного христианства русскими при князе Владимире в качестве своего национального мировоззрения архимандрит Гавриил делает очень важный вывод о появлении ещё одного существенного признака русской философии, который появился именно как результат принятия русскими православного христианства в качестве абсолютной метафизической истины. Признак этот – в признании христианского Божественного Откровения в качестве не только недоступного для критики вероучительного (= метафизического) учения, но даже как критерия истинной философии. Что соответствует православному христианскому вероучению, основанному на христиански понимаемом Божественном Откровении, то и есть истинная философия, что не соответствует – есть ложь. Итак, с принятием православного христианства русская философия в своей гносеологии стала содержать три признака: наряду с рационализмом и эмпиризмом (= сенсуализмом) появилось и христианское Откровение как решающий критерий истины. С тех пор эта русская гносеология определяет не только русскую философию как теорию, но и русскую историю как практику. В качестве исторического подтверждения правильности так понимаемой истинной гносеологии и философии, на этой гносеологии выстроенной, архимандрит Гавриил приводит победу России над наполеоновской Францией. Эта победа, по убеждению архимандрита Гавриила, не могла бы состояться без помощи Бога, а эта помощь не могла бы иметь место, если бы православное учение о сущности Бога не было бы истинным.
С наибольшей ясностью теоретическая фиксация такого характера русской философии (как сообразованного с христианским вероучением) получила в Уставе духовных академий, утвержденном императором Александром Первым 30 августа 1814 года. Там, кроме всего прочего, четко определен для преподавателей философии в духовных академиях способ преподавания философии. При разборе различных философских мнений преподавателю философии следует твердо держаться того исходного положения, что носителем истины даже и в её философском выражении является исключительно только христианское вероучение. «Он должен быть внутренне уверен, что ни он ни ученики его никогда не узрят света вышней философии, единой, истинной, если не будут его искать в учении христианском; что те только теории суть основательны и справедливы, кои укоренены в истине евангельской: ибо истина есть одна, а заблуждения бесчисленны. … Да не будет никогда в духовных академиях слышно то различие, которое к соблазну веры и в укоризну даже простого доброго смысла столь часто в школах было допускаемо, что одно и то же предложение может быть справедливо в понятиях философских и ложно в понятиях христианских. Всё, что не согласно с истинным разумом священного писания, есть сущая ложь и заблуждение, и без всякой пощады должно быть отвергаемо»[7]. В этом же Уставе рекомендовано преподавателям философии в духовных академиях среди различных философских мнений, известных в истории философии, держаться мнений Платона как наиболее соответствующих христианскому вероучению: «Между древними Платон есть первый столп истинной философии. В писаниях его и в писаниях лучших его последователей должно искать основательного философского учения. <…> Из новейших философов тех должно предпочтительно держаться, кои ближе его держались»[8].
Доведя историю русской философии до своего времени, архимандрит Гавриил начинает вести рассуждения уже в терминах и стиле, которые он усвоил из учебных курсов в духовных учебных заведениях – семинарии и академии. Это проявилось в том, что философию он стал толковать преимущественно уже как гносеологию, а не как раньше, когда он толковал её преимущественно как метафизику-мировоззрение, что позволяло ему усматривать элементы русской философии в устном народном творчестве, в частности – в народных поговорках. Сейчас же он перешел на суждения книжные, перенятые им из учебных курсов. Приступив к рассмотрению темы «чем отличается русская философия от философии прочих европейских народов», архимандрит Гавриил начинает с определения понятия философии, которое сводится к утверждению, что философия есть анализ (= уяснение) содержания нашего сознания. Этот анализ прежде всего приводит к выводу, что в нашем сознании присутствуют три главнейших объекта для умственного рассмотрения: 1) «я», или «дух познающий»; 2) «не-я», или «мир, вне нас существующий»; 3) «Бог». Соответственно этому наличию трёх объектов умственного рассмотрения и типов философии может быть – и фактически оказалось – тоже три. «Дух познающий» стал объектом исследований немецкой идеалистической (= рационалистической) философии. «Не-я» стало объектом исследований английской опытной (= эмпирической) философии. Третий тип философии, имеющий объектом своих исследований метафизический духовный мир, есть принадлежность русской философии. Правда, по уточнению самого архимандрита Гавриила, русская философия имеет сложный (= синтетический) характер. Признавая в качестве наиважнейшего объекта своих исследований духовный мир с его центральным понятием о Боге и категорией Божественного Откровения, русская философия наряду с этим не отвергает и необходимости рационализма и сенсуализма в философской деятельности. В этом «синтетизме» русской философии подразумевается её выгодное отличие от односторонностей идеализма (= рационализма) и эмпиризма (= сенсуализма), культивируемых ради их якобы исключительной истинности. Идеализм в отрыве от опыта вырождается в высокопарные, претенциозные, но нередко бессодержательные словосочетания. Эмпиризм при своем последовательном осуществлении именно как исключительно истинного метода философствования неизбежно приводит к онтологическому и этическому материализму, фатализму (отрицанию свободы) и атеизму, которые суть основные признаки мировоззренческого абсурда. Но неверные порознь при одностороннем своём осуществлении рационализм и эмпиризм при своей координации и здравом, т. е. умеренном, приложении к умственной деятельности вполне доказывают свою философскую плодотворность. Что в русской философии, по убеждению архимандрита Гавриила, и учитывается. В дальнейшем архимандрит Гавриил старается подтвердить примерами характер русского философского мышления.
Так как православие перенято русскими от Византии, то и следует искать среди византийских священнослужителей, просветителей России, первых выразителей русской философии. Архимандрит Гавриил первым в этом списке вспоминает святителя Иоанна, Экзарха Болгарского (нач. 2-й пол. IX – 1‑я треть X). Анализируя различные сочинения святителя Иоанна, архимандрит Гавриил демонстрирует выдающуюся эрудицию его как в области христианского богословия, в том числе и (даже по преимуществу) апологетического богословия, так и в области древнегреческой философии, в которой, кстати, отдает предпочтение Платону перед Аристотелем, хотя и Платона принимает не полностью, а с христианскими поправками.
Далее вспоминается Никифор, митрополит Киевский и всея Руси (XI век – 1121). Кроме того, что этот святитель был изрядным богословом, он был и ученым философом-неоплатоником. По убеждению архимандрита Гавриила, митрополит Никифор стал образцом для подражания последующим русским писателям духовного чина, употребив свои обширные познания во всех науках на пользу укрепления церковно-православного учения. В своем наставлении князю Владимиру Мономаху святитель излагает сущность христианской нравственности, подробно объясняя её, кроме богословской аргументации, сведениями из античной философии (по теме «антропология-психология»). Архимандрит Гавриил по поводу этого наставления святителя князю приводит мнение Н. М. Карамзина (1766–1826), который увидел в этом наставлении пример того, «как древние учители нашей церкви беседовали с государями, соединяя усердную хвалу с наставлением христианским. Но оно драгоценно для нас <…> и по своему философскому направлению»[9]. Нравственное наставление митрополита Никифора князю Владимиру Мономаху сказалось, кроме всего прочего, и в том, что сам князь стал в свою очередь автором выдающегося нравственного «Поучения к детям», которое, по мнению архимандрита Гавриила, может считаться символом «общенародного русского любомудрия». Текст этого поучения архимандрит Гавриил излагает полностью на 32–34 страницах своей истории русской философии[10].
Даниила Заточника (XII век) архимандрит Гавриил квалифицирует как философа, по мудрости своей напоминающего Соломона. И в качестве подтверждения такой высокой оценки приводит фрагмент текста, который в истории русской словесности обозначается как «Слово Даниила Заточника». Это «Слово» тщательно исследовано отечественными учеными, но, тем не менее, окончательных выводов у этих исследований нет. Несомненно лишь то, что это произведение является выдающимся литературным памятником еще домонгольского периода Древней Руси. Но оригинального текста, относящегося к XII веку, нет. Только списки, относящиеся к гораздо более поздним временам – к XVI и XVII векам. Толком не известен даже автор текста. Но принято все же думать, что наиболее вероятным автором является историческое лицо, а именно некий опальный княжеский дружинник Даниил, который обратился со своим этим «Словом» к своему начальнику, новгородскому князю Ярославу Владимировичу, княжившему в Новгороде в 80–90 годы XII века. Попав по каким-то причинам в опалу и в ссылку в северный край новгородских владений, Даниил и обратился к князю со своим «Словом», целью которого было склонить князя к помилованию его и возвращению его в княжескую дружину. При этом Даниил указывал на свои достоинства (книжные знания, ум, мудрость, молодость, дар выражать свои мысли изящно), благодаря которым он мог бы быть у князя советником и даже помощником в управлении княжескими делами. Чтобы продемонстрировать князю свою ученость, Даниил излагает различные извлечения из Священного Писания, особенно из книг Ветхого Завета (Притчи Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Псалтирь), а также из других книжных источников, известных в его время. В результате получился богатый подбор различных афористических высказываний на самые разные темы. Такая вот своеобразная энциклопедия древнерусского книжника.
Такой характер «Слова» способствовал тому, что при дальнейших переписываниях его текста к нему добавлялись переписчиками всё новые и новые фрагменты. Эти добавления в виде цитат, пословиц, различных бытовых притч (на темы «о богатых и бедных», «о мудрых и глупых», «о щедром и скупом хозяине», «о злых женах») в конце концов превратили первоначально задуманное Даниилом «Слово» как просьбу о помиловании в совершенно другой жанр – в сборник изложений древнерусскими книжниками (= «грамотеями») тех умствований, которые они извлекли из всех доступных им литературных источников. Это как раз и придает всему этому сочинению особую ценность, ибо в нем отражается духовно-умственный мир древнего русского интеллигента (= «грамотея»). А ведь это и есть то, что архимандрит Гавриил называет русской философией и что позволило ему усмотреть в Данииле Заточнике русского Соломона.
Кроме всего прочего, в «Слове» содержится очень важное признание самого Даниила Заточника о том способе, которым он приобрел свои знания. Вот это признание: «Я, княже, за море не ходил, у философов не учился, но был как пчела, припадающая к разным цветам и собирающая их нектар; так и я, из многих книг выбирая сладость словесную и мудрость, собрал их, как в сосуд». Этот метод приобретения высоких (не эмпирических) знаний, или, что то же самое с точки зрения архимандрита Гавриила, комплектования содержания русской философии – через извлечение элементов этой философии из уже имеющихся источников – чрезвычайно характерен для русских мыслителей. Они именно находили истину в наличном умственном материале и извлекали её из него, как пчела извлекает мед из наличного разнообразия цветов. «Пчела» есть меткое метафорическое обозначение истинного мудреца. Мудрец не изобретает истину, он её находит. Ибо если бы истину можно было бы изобрести, то тогда бы истин было бы столько, сколько было бы изобретателей, т. е. безграничное множество, но «множество истин» есть абсурд, потому что истина может быть только одна.
Преподобный Нил Сорский (1433–1508) поставлен архимандритом Гавриилом следующим за Даниилом Заточником в списке русских философов. Для подтверждения философской значимости преподобного Нила Сорского приводится фрагмент его наставлений из его же основного литературного произведения – «Устава скитской жизни». Наставления эти исходят из того понимания преподобным Нилом Сорским возможности нравственного совершенствования для инока, как и для всякого христианина, которое состоит в том, что началом такого нравственного совершенствования непременно должен быть аскетический образ жизни. Но аскетизм при этом понимался преподобным Нилом Сорским не как механическое воздействие на тело через пост и послушание, как это обычно понималось в те времена, а как прежде всего воздействие на разумно-сознательную сторону души самого аскета. Воздействие это начинается с того, что высшим авторитетом для пытающегося усовершенствовать свою нравственность инока должны быть установлены исключительно только «божественные писания». Нравственно недостойное поведение инока, как и вообще всякого человека, имеет, по убеждению преподобного Нила Сорского, основной причиной невежество относительно сущности «божественных писаний». При разумном же усвоении сущности «божественных писаний» воля инока должна сообразовывать свои действия со смыслом этих писаний. Интеллектуализм такого понимания роли разума в нравственно-аскетическом делании инока, да и всякого человека, ещё более подчеркивается убеждением преподобного Нила Сорского в том, что сами «божественные писания» должны подвергаться разумной критике со стороны инока. Получается, что инок для нравственного своего совершенствования не только должен подчинять свою волю предписаниям «божественных писаний», но даже предварительно он обязан эти писания подвергнуть испытанию (т. е. критике) по той причине, что «писания многа, но не вся божественна». Такой принципиальный рационализм преподобного Нила Сорского резко его выделяет среди современников, русских «грамотеев», позволяет видеть в нём действительно вполне самобытного не только практика, учителя нравственности, но и теоретика, философа, ибо именно для философа является отличительной чертой то, что он видит в индивидуальном своем разуме основную проверочную инстанцию при поиске истины[11].
Этот рационализм преподобного Нила Сорского вызвал решительное неприятие его современника и принципиального оппонента преподобного Иосифа Волоколамского (1440–1515), который усматривал в попытке преподобного Нила Сорского критически отнестись к «божественным писаниям» даже некую ересь[12].
Правда, рационализм преподобного Нила Сорского не был таким уж прямолинейно последовательным. В области нравственности, т. е. в сфере практической философии, он даже культивировал мистицизм, который ведь есть диаметральная противоположность теоретическому рационализму. Письменно зафиксированы его мысли о том, что нравственная добродетель производится «безмолвием», но умаляется «от бесед», т. е. от умствований. «Наипаче же нужно хранить безмолвие, умереть всему миру и жить единому Богу». Откуда мистицизм у преподобного Нила Сорского? Это следствие влияния греческого мистического учения «исихазма», с которым преподобный Нил Сорский познакомился на Афоне, где он пробыл в молодые годы некоторое время. Исихазм как раз на Афоне и зародился. Это учение по своему замыслу есть модификация неоплатоновского «экстасиса».
В списке представителей русской философии у архимандрита Гавриила после преподобного Нила Сорского стоит Феофан (Прокопович; 1681–1736), архиепископ Новгородский. Перерыв более чем в 200 лет! В России уже совершенно другая культурная эпоха, эпоха радикальных преобразований Петра I. Архиепископ Феофан (Прокопович) был одним из активнейших помощников Петра в его преобразованиях в сфере церковного управления (ликвидация патриаршества, «Духовный регламент» и пр.) и в сфере взаимоотношений государственной власти и Церкви (церковное управление должно быть в полном подчинении государственной власти, как это было учреждено в протестантских странах). Отношение архиепископа Феофана (Прокоповича) к философии было определено исключительно только его школьным образованием и самостоятельным чтением (т. е. самообразованием). А образование у него было вполне основательным, и начитанность весьма широкая. Уроженец Киева, он прошел курс обучения в тамошней Киево-Могилянской академии, в которой учебная программа (на латинском, кстати, языке) контролировалась местными поляками-иезуитами, а затем он прошел курс (или часть курса) обучения в Риме в иезуитской же коллегии святого Афанасия (ему, как будто, даже для этого пришлось принять католичество). Но в 1704 году он возвратился в Киев (и в православие) и стал преподавать в академии. Среди учебных дисциплин, которые он преподавал, была и философия. Было даже учебное пособие по философии, им написанное в 1708 году и оставшееся в рукописи – «Аристотелико-схоластическая философия» на латинском языке. Весь материал по философии был, конечно, в основном тот, который он усвоил за время своего обучения в Киевской академии и Римской коллегии и восполнял который чтением. Аристотель и его схоластические трактовки – это из учебных программ. Декарт, Бэкон, Спиноза, Лейбниц, Вольф – это из книг. Ничего русского в таком философском материале нет. Это просто фрагментарное воспроизведение европейской философии.