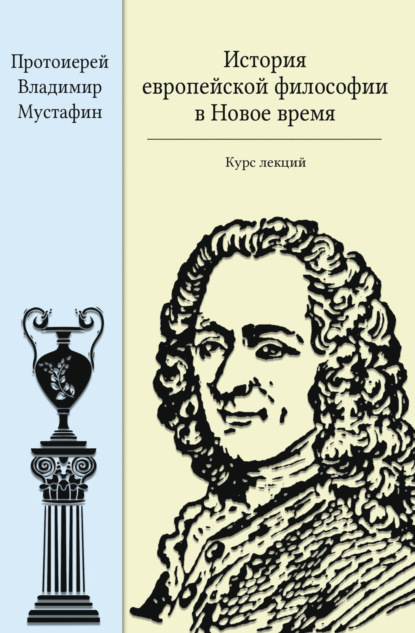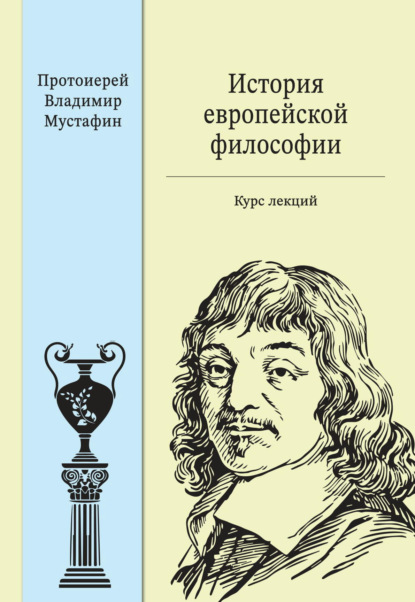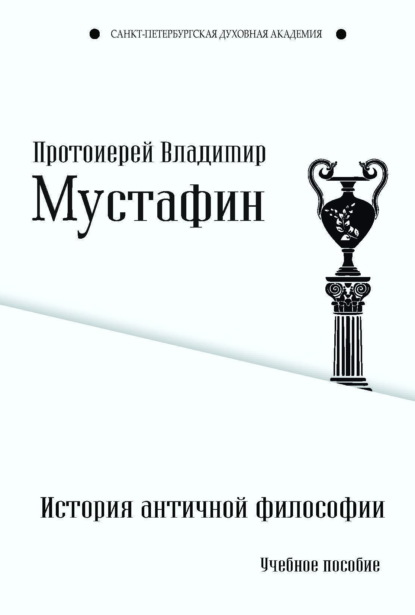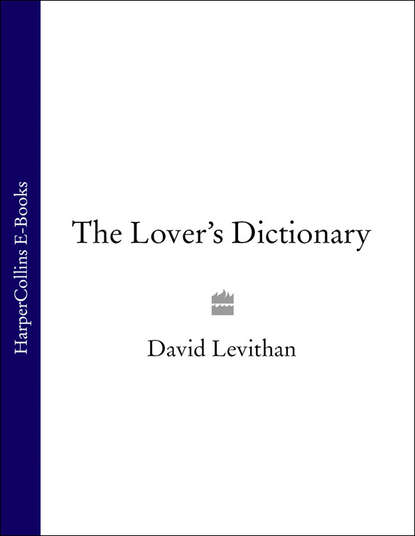Русская философия
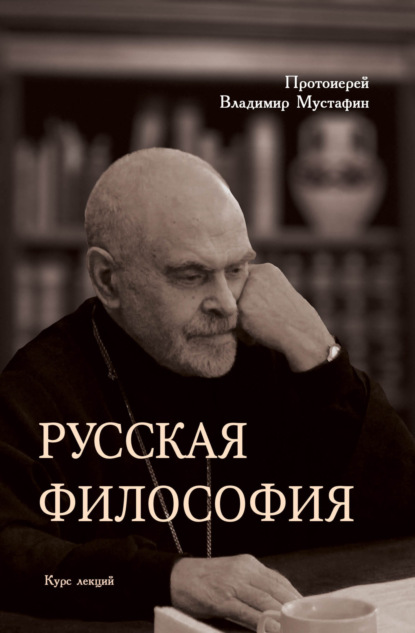
- -
- 100%
- +
Для непосредственного ознакомления своих читателей с философией архиепископа Феофана (Прокоповича) архимандрит Гавриил предлагает его рассуждение «о безбожии», напечатанное в типографии московского университета в 1774 году. В этом рассуждении аргументируются два основных положения религии, а, значит, опровергается безбожие: 1) существует душа человека бестелесная и бессмертная, 2) существует Бог. Бестелесность души доказывается сравнением содержания душевной жизни и содержанием мозга человека. Содержание душевной жизни чрезвычайно богато: это и неисчислимое количество познавательных образов (= идей), окружающих человека предметов чувственного мира и различные комбинации этих образов; это и властные акты воли человека, которые сопровождают все его поступки на протяжении всей жизни; это и разум, «первейшая часть души», который устанавливает пределы для свободы воли в её действиях, чтобы тем самым предупредить действия воли, нарушающие нравственные нормы; в такой «предупреждающей» функции разум проявляет себя как «совесть». А что же можно найти в мозге человека? Ничего, кроме вещественной субстанции, имеющей определенную протяженность, измеряемую по широте, высоте и глубине, которую, субстанцию, можно, конечно, распределить в пространстве на части, можно даже разделить на химические элементы, но и только, – никакого душевно-духовного содержания там обрести не удастся. Бессмертие души есть логическое следствие её бестелесности. Всё телесное и вещественное когда-либо было рождено и когда-либо неизбежно умрет. Душа же бестелесна и поэтому на такую участь – неизбежную смерть, она не обречена.
Существование Бога архиепископ Феофан (Прокопович) обосновывает хорошо известными в то время доказательствами. Архимандрит Гавриил просто перечисляет эти доказательства, но не приводит тексты этих доказательств. Бытие Бога доказывается 1) врожденным познанием о Боге, и согласием всех народов в признании существования Бога. Здесь подразумевается, во-первых, т. н. онтологическое доказательство бытия Бога, а, во-вторых, т. н. consensus gentium. Онтологическое доказательство бытия Бога заключает от наличия понятия о Боге у каждого человека к существованию Бога, ибо только существованием Бога можно объяснить наличие у человека понятия о Боге. Бог Сам внедрил понятие о Себе в душу каждого человека. Consensus gentium (= согласие народов) есть понятие, обозначающее наличие религии, хоть в каком-либо её варианте, у всех без исключения народов. Если нет народов без религии, то это есть основательное доказательство в пользу культурной плодотворности религиозного мировоззрения, в основе которого находится признание бытия Бога в качестве несомненной истины. Бытие Бога доказывается 2) рассуждением о начале движения. Здесь подразумевается вариант т. н. космологического доказательства бытия, который сформулировал ещё Аристотель. Всё в мире движется. Должен же быть тот перводвижитель, который это вселенское движение начал. Таким перводвижителем можно помыслить только Бога. Бытие Бога доказывается 3) рассматриванием величества и благочиния Вселенной. Здесь подразумевается т. н. телеологическое доказательство бытия Бога. Вселенная устроена поразительно целесообразно. Устроителем этой целесообразности можно помыслить только вселенский разум, т. е. Бога. Бытие Бога доказывается 4) рассуждением о человеке, в особенности расположением и соразмерностью членов тела. Здесь подразумевается вариант телеологического доказательства бытия Бога, в котором обращается внимание на изумительную целесообразность устройства человеческого тела, позволяющая человеку познавать окружающий его чувственный мир в мере, превышающую способности любого животного, и позволяющую человеку осуществлять воздействие на этот окружающий мир (земледелие, строительство, камнеобработка, металлургия и пр.), недоступное для животных. Причиной такой целесообразности может быть только Бог.
Все эти апологетические рассуждения архиепископа Феофана (Прокоповича) к понятию русской философии прямого отношения не имеют. И эти рассуждения не есть его изобретение. Они составляли содержание тогдашней европейской школьной учености, усвоенной архиепископом Феофаном (Прокоповичем) ещё во время прохождения обучения в Киевской академии и в Римской коллегии.
Георгий Конисский (1717–1795)Архимандрит Гавриил кратко излагает хронологию жизни Георгия Конисского, а далее приводит название его основного философского труда, в котором содержится полная система любомудрия (= философии) автора. В названии, по-латински сформулированном, говорится о том, что в предлагаемом рукописном сочинении излагаются суждения по четырем разделам философии (логике, метафизике, физике и этике), которое, сочинение, написано в 1749 году в Киеве префектом тамошней академии Георгием Конисским. Содержание этой массивной рукописи (около 500 листов мелкого письма), написанной по-латински, не анализируется, а просто архимандрит Гавриил на двух страницах своего сочинения приводит фрагмент этого текста для самостоятельного изучения читателем. Но общая оценка характеру философствования Георгия Конисского всё же дается. Будучи в свое время не только префектом Киевской академии, но и преподавателем в ней философии, Георгий Конисский, «изъясняя слушателям своим истины разума, подкреплял оныя весьма прилично мнениями святых отцов, чтобы надежнее предохранить юных, неопытных мыслителей от лжеумствований суетных и опасных»[13]. Такой метод преподавания философии точно соответствует христианскому пониманию сущности философии, – критерием истинности философских суждений является их соответствие христианскому вероучению.
Григорий Сковорода (1722–1794)Этому мыслителю архимандрит Гавриил отводит самое большое место в своем сочинении – страницы 53–70. Прежде всего подробнейшим образом излагается биография Григория Сковороды. Выявление характера философии Сковороды начинается со сравнения его с Сократом. По мнению архимандрита Гавриила, сходство Сковороды с Сократом состоит прежде всего в том, что оба считали своим призванием быть нравственными наставниками простого народа[14].
Второе сходство Сковороды с Сократом, по мнению архимандрита Гавриила, в том, что и тот и другой видели начало истинного ведения (т. е. философии) в самопознании. Сущность человеческой природы (как следствие самопознания, т. е. познания человеком своей собственной сущности), правда, выглядела для Сократа и Сковороды по-разному. Если Сократ толковал человеческую природу «по гаданиям здравого смысла», то Сковорода изъяснял человеческую природу «по откровениям небесного разума»[15].
Сам Григорий Сковорода очень высоко оценивал роль Сократа в истории античной философии. Архимандрит Гавриил приводит длинные цитаты из писаний Сковороды, в которых эта высокая оценка содержится. Мысль Сковороды, эту высокую оценку обосновывающая, состоит в следующем. Обычно, когда вспоминают величайших философов Древней Греции, то приводят прежде всего имена Платона, Аристотеля, Зенона (Китийского, основателя стоицизма), Эпикура. Но при этом забывают, что все эти учения имеют своим истинным источником именно «науку» Сократа. Поэтому в России (у Сковороды – «в Руси») необходимо должен появиться свой Сократ, чтобы впоследствии за ним появились свои Платоны, Аристотели, Зеноны и Эпикуры[16]. И вот, в роли русского Сократа Григорий Сковорода видел именно себя. Дело, в котором намеревался Сковорода проявить себя русским Сократом, было, по его прямому признанию, «обучать братию добродетели: яко свыше заповедано мне: сей мой сан есть и жребий, и конец, и цвет, и плод жизни и трудов моих упокоение»[17].
Правда, на самом деле основной темой размышлений Григория Сковороды было всё же не «обучение добродетели», а тема самопознания. На эту тему у него даже сложилась целая теория. Основные положения этой теории следующие. Так как познающая себя личность может рассматривать себя тремя различными способами – 1) как индивида, 2) как члена общества, в котором он оказался от рождения, и, наконец, 3) как принадлежащего к человеческому роду, к человечеству вообще, – то и процесс самопознания состоит из трёх этапов, каждый из которых соответствует одному из этих трёх способов самовосприятия личности. Первый этап самопознания состоит в реальной оценке своей индивидуальной природы (физической и психической). Второй этап самопознания состоит в отдании индивидом себе отчета, к какой языковой, национальной и религиозной общности он принадлежит, гражданином какого государства он является. Третий этап самопознания состоит в том, чтобы усвоить ту истину, что каждый человек есть образ и подобие Бога. При этом Сковорода настаивал на том, чтобы результаты всех этих трех способов самопознания были бы приведены в одну систему мировоззрения, которое и определит всё дальнейшее поведение индивида. В греческой философии Сковорода указывал трёх мыслителей, каждый из которых учил только одному способу самопознания: 1) неизвестный по имени автор знаменитой надписи «Познай самого себя» на фронтоне дельфийского храма учил познанию самого себя как индивида; 2) Соломон учил опознанию самого себя как гражданина; 3) Сократ имел в виду познание себя как человека вообще. Лишь в учении Христа, по убеждению Сковороды, впервые была выражена мысль о полном, т. е. трояком познании самого себя[18].
В конце своего изложения сущности философии Григория Сковороды архимандрит Гавриил обращает внимание на его действительно оригинальное педагогическое учение. Состоит это учение в следующем. Сковорода вполне сознательно противопоставлял свое просветительское учительство учительству дипломированных интеллектуалов-ученых. Отличий два. Во-первых, если городские ученые учат в специальных школах и учат преимущественно барчуков, отпрысков важных людей, то сам Сковорода имел вполне осознанное намерение просвещать именно простых людей и не в школах, а в непосредственных контактах с селянами. Традиционное барское высокомерие в отношении к простым людям Сковорода отвергал: «Барская умность, будто простой народ есть черный, видится мне смешная»[19]. Относительно того распространенного в те времена обвинения простого народа в инертности и равнодушии к городским знаниям Сковорода отвечал: «Мудрствуют: простой народ спит. Да и пусть спит и спит сном крепким, богатырским. Всяк сон кончается пробуждением и бодрствованием»[20]. Во-вторых, предназначая себя для просвещения простого народа и будучи сам по происхождению частью простого народа, Сковорода выражал твердое убеждение, что и вообще каждый просветитель-учитель народа должен происходить из самого же народа, ибо только при соблюдении этого условия народ получит именно то знание, в котором он по-настоящему нуждается (так как учитель из народа хорошо знает, в каких знаниях народ нуждается). Доверять образование народа «покупным учителям» из немцев и французов значит подвергать свой народ чужому воспитанию[21].
Митрополит Платон (Левшин; 1737–1812)В этом разделе приводятся два кратких рассуждения митрополита Платона (Левшина), в которых излагается сущность двух традиционных доказательств бытия Бога – телеологического и нравственного. Согласно телеологическому доказательству, окружающий человека предметно-чувственный мир настолько целесообразно устроен, что вывод о Боге как устроителе этой целесообразности неизбежен, причем неизбежен настолько, что во всем человечестве нет народов, пусть даже самых диких, которые бы не имели веры в Бога. Согласно нравственному доказательству (точнее сказать, одной из модификаций этого доказательства), совесть человека, четко разделяющая добро и зло в его поведении, несомненно свидетельствует о существовании Бога, голосом которого совесть как раз и является. Напоминая эти доказательства бытия Бога, митрополит Платон делает вывод, что перед их непреоборимой убедительностью исчезают всякие рациональные основания для безбожия.
Из этих двух рассуждений трудно сделать какой-то вывод о вкладе митрополита Платона (Левшина) в формирование русской философии. В простых повторах основных мыслей телеологического и нравственного доказательств бытия Бога ничего нового нет. Эти доказательства и для конца XVIII века были давно и хорошо известными элементами христианской защиты веры в Бога перед нападками безбожников.
Дмитрий Сергеевич АничковОб этом человеке архимандрит Гавриил сообщает только биографические данные и названия сочинений, написанных им. Никакого содержательного представления о его философских суждениях из этого вынести невозможно.
Андрей Михайлович БрянцевТо же самое: биографические данные, звания, занимаемые должности и названия сочинений, из которых, голых названий, никакого представления о содержании извлечь невозможно.
Михаил Никитич Муравьев (1757–1807)Для создания представления о внутреннем мире этого человека, бывшего одно время попечителем московского университета, архимандрит Гавриил приводит одну длинную цитату из его рассуждения «О блаженстве». В этом рассуждении истинное блаженство понимается как исключительно только тихое и одинокое пребывание в среде сельской природы, далекой от толкучки городской жизни. Счастливый индивид, попавший в такую среду (уединенный луг, прозрачная речка, тенистый сад), «день и ночь поучается в великой книге природы, и душа его возвышается от созерцания неизмеримых творений Господних»[22]. Ясно, что такая сентиментальная лирика имеет большее отношение к художественной литературе, чем к философии.
Иоанн Феофил Буле (1767–1821)Немец. Приглашен в Россию в 1804 году для преподавания в московском университете, где и преподавал до 1811 года, а затем вскоре вернулся на родину. Слыл обладателем энциклопедической учености. Архимандрит Гавриил приводит длинный список его ученых трудов. Но при этом никаких сведений о конкретных философских суждениях Буле не предоставляется. Так что понять, какое отношение Буле имеет именно к русской философии, невозможно.
Митрополит Евгений (Болховитинов; 1767–1837)Только краткая и притом неполная биография и список названий научных работ (в числе которых были и философские), большинство даже и неизданных. О содержании философских суждений из этой информации архимандрита Гавриила никакого вывода сделать невозможно.
Митрополит Филарет (Дроздов; 1782–1867)После кратких биографических сведений, доведенных до 1826 года, когда бывший до этого архиепископом Московским Филарет стал митрополитом Московским, и перечня некоторых его богословских сочинений, в том числе и таких хорошо известных уже в то время произведений как «Пространный катихизис» и «Начатки христианского учения», архимандрит Гавриил излагает текст его, митрополита Филарета, философского «Рассуждения о нравственных причинах неимоверных успехов наших в войне с французами 1812 года».
Само это рассуждение есть действительно яркое проявление философского дарования митрополита Филарета в области философии истории и религиозно-философской этики. Одна из основных мыслей этого рассуждения, которую подчеркивает митрополит Филарет в начале, состоит в том, что для формирования сильного государства необходимы не только физические и политические основы, но даже в большей степени необходима нравственная основа. Только эта основа и дает действительное превосходство в вооруженной борьбе государств друг с другом. И пример такой борьбы, где нравственное превосходство привело к военной победе одного государства над другим, есть война России против Франции в 1812–1814 годах. В самом начале этой войны совершенно очевидным для Наполеона, как и практически для всех политиков в Европе, было внешнее, материальное превосходство французов над русскими. Громадное войско, в котором участвовали полтора десятка основных европейских народов, воодушевление от предыдущих военных побед над Австрией и Германией, и, наконец, надменно-высокомерное отношение к «русским» как восточным варварам, неспособным в принципе противостоять «передовым образованным европейцам». Казалось бы, что этому могла противопоставить Россия? Но историческая реальность вскрыла истинное положение вещей. Военное поражение всеевропейского ополчения во главе с Францией от России стало очевидным для всех.
Решающая причина такого исхода борьбы Европы с Россией, по убеждению митрополита Филарета, состоит в нравственной ущербности европейцев, которая, нравственная ущербность, есть прямое следствие уклонения европейцев от истинного христианского правоверия, т. е. от православия. Кто уклоняется по каким-либо причинам от признания истинного христианского вероучения и, как неизбежное следствие, от исполнения на практике правильно понимаемого закона Божия, тот непременно теряет нравственную устойчивость во всех своих делах, в том числе и в государственных и в том числе и в вооруженных попытках доказать свое превосходство над другими народами.
Далее митрополит Филарет это свое исходное положение обобщает в целое историософское учение о сущности государства. Настоящее государство, а не мнимые его подобия, должно содержать в себе следующие три признака. Во-первых, вера в Бога (согласно истинно христианскому пониманию его сущности) и неуклонное следование тем нравственным правилам, которые этой верой определяются как истинные. Без этого признака, как уже было сказано, государство не будет иметь жизнеспособных ресурсов для своего существования. Во-вторых, непосредственное управление государством должно осуществляться законно утвержденным монархом. Почему именно монархом? Потому что монарх по своей функции правителя аналогичен родителю-отцу, главе изначальной ячейки общества (и государства) – семьи. Так как общество (и государство) неизмеримо многочисленнее семьи, то прежнее естественное семейно-племенное управление таким большим скоплением людей стало невозможным и поэтому исторически неизбежно возникла необходимость именно монархического управления общественной и государственной жизнью. Монарх сохраняет прежнюю функцию управления, которая зародилась в семье, но эта функция распространяется уже на всю массу населения государства. Монархическое управление государством есть, таким образом, самая естественная форма государственного управления. В-третьих, монархическая форма управления государством естественно же восполняется общественной активностью граждан, которая, гражданская активность, есть опять же естественное следствие того положения, что истинное государство есть союз свободных нравственных существ, соединившихся между собою для охранения и утверждения общими силами закона нравственности, который есть необходимое условие их совместного бытия. К этому утверждению митрополит Филарет добавляет следующее соображение. То, что обычно считается непосредственным регулятором общественных отношений, т. е. правовые нормы, суть ничто иное как конкретные нравственные положения, которые законодательно утверждаются в качестве правовых норм.
В толковании сущности второго и третьего признака истинного государства митрополит Филарет в значительной степени повторяет те соображения, которые к тому времени стали уже хрестоматийно-элементарными. Происхождение монархической формы государственного управления из власти отца семейства, происхождение государства из свободного соединения людей для совместного обеспечения безопасности своего совместного существования (при этом, свободно договаривающиеся индивиды добровольно отказываются от части своей индивидуальной свободы, передавая её правящей в обществе властной инстанции), происхождение правовых норм из нравственных норм, – всё это для того времени было хорошо известными мыслями, усваиваемыми, как и положено, в школьном обучении. Митрополит Филарет в данном случае, выступая как мыслитель, действует в полном оснащении той школьной образованности, которая утвердилась еще в начале XIX века в российских духовных учебных заведениях. По-настоящему оригинальным, т. е. не извлеченным из школьных курсов, во всем этом учении о сущности государства было положение, зафиксированное как первый признак истинного государства, – положение о нравственной сущности истинного государства, которая, нравственная сущность, объяснялась истинным правоверием государственной религии, т. е. православием.
Даниил Михайлович Велланский (1774–1847)Здесь информация очень скупая. Сообщается только хронология жизни Даниила Велланского (естественно – до 1840 года). А отношение его к философии характеризуется только тем, что он был ревностным последователем школы Шеллинга на русской земле. И всё. Никаких подробностей, в которых можно было бы засвидетельствовать наличие элементов философии Шеллинга в высказываниях Велланского, не приводится.
Александр Иванович Галич (1783–1848)То же самое – хронология жизни (до 1840 года) и характеристика философских взглядов в виде «последователь Шеллинга», и только.
Гавриил Ильич Солнцев (1785–1866)За хронологией жизни (до 1840 года) этого человека следует пространное изложение его юридических рассуждений. В частности, в этих рассуждениях содержится характеристика различных видов государственного управления.
Монархический образ правления характеризуется как самый древний, с природою человеческою более всего согласный, простой и ясный для понимания, и самим Богом установленный. Преимущество монархического управления государством состоит в том, что власть законодательная, судебная и распорядительная (административная) находится в одной только инстанции, в руках монарха, и поэтому само управление в таком случае для своего осуществления гораздо удобнее и эффективнее, чем при управлении многими (при аристократическом управлении) или, тем более, всеми (при демократическом управлении)[23].
Аристократический образ управления государством Солнцев отождествляет с республиканским. Оценивает он этот образ управления, понятно, принципиально ниже монархического. По его мнению, аристократическо-республиканское управление государством есть результат сознательного разрушения монархической формы управления, единственно правильной. При аристократическо-республиканском управлении государством монархическое единоначалие заменяется аристократическим многоначалием, что усиливает бремя содержания увеличивавшегося таким образом начальства для простого народа. Отрицательные следствия отказа от монархии в пользу аристократии-республики сказываются на самом народе и потому ещё, что часть этого народа в виде аристократов-вельмож, присвоивших государственную власть, становится в положение, при котором узаконивается её, этой части народа, преимущество перед основной массой народа, что, очевидно, несправедливо. В монархии такой несправедливости нет. Приближенные к монарху его помощники в управлении государством находятся в подчинении у него, которое, это подчиненное положение, в какой-то степени уравнивает этих приближенных к монарху личностей с простыми гражданами государства, тоже подчиненными монарху. Именно по этой причине установления качественного различия между простыми гражданами и вельможами-аристократами аристократический образ правления не отличается устойчивостью и долголетием, ибо недовольство простых граждан такой очевидной несправедливостью приводит или грозит привести к замене аристократического многоначалия всеобщим т. н. народоначалием.
Демократия есть по сути дела естественное дальнейшее развитие республиканского образа правления, т. е. аристократического. Монархическое правление при его разрушении приводит к аристократическому правлению, которое, в свою очередь, при продолжении тенденции отдаления от монархии неизбежно превращается в демократию. Демократия бывает двух видов. Собственно демократия, когда весь народ какого-либо государства сам собою правит. Так было, по замыслу, в древнегреческой Аттике. Но такой тип демократии может быть осуществлен только в небольших государствах с немногочисленным населением. В новое время государства имеют почти всегда слишком многочисленное население. Поэтому у них реализуется другой тип демократии – демократия представительная. Это когда власть осуществляется не непосредственно самими гражданами, а теми личностями, которые для этого дела, властного управления, выбираются рядовыми гражданами государства. Основной недостаток демократического управления государством состоит как раз в этой его природе – в необходимости для всех властных процедур (и по линии законодательной и по линии исполнительной власти) включать один и тот же механизм коллегиального обсуждения, которое, коллегиальное обсуждение, в свою очередь нуждается в предварительной самоорганизации самой коллегии для производства намечающегося совместного обсуждения какого-то вопроса. Всё это требует долгого времени для принятия властных решений, в то время как некоторые решения, особенно по вопросам внешней и внутренней безопасности, необходимо принимать быстро или даже немедленно. А на это демократия неспособна по самой своей природе.
Этими рассуждениями Солнцева, которые можно отнести к теме «сущность и происхождение государства», только и обозначается его отношение к философии. Всё остальное в его текстах, изложенных архимандритом Гавриилом, имеет почти исключительно только юридический характер. Солнцев ведь и был по своему общественному положению преимущественно специалистом в правоведении.