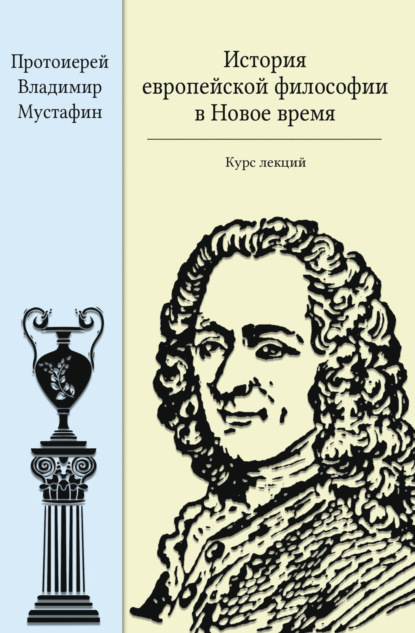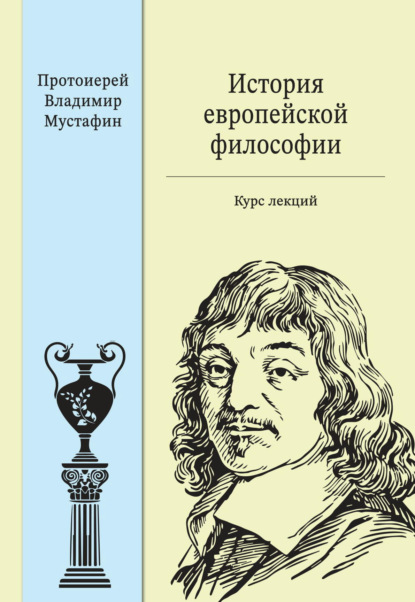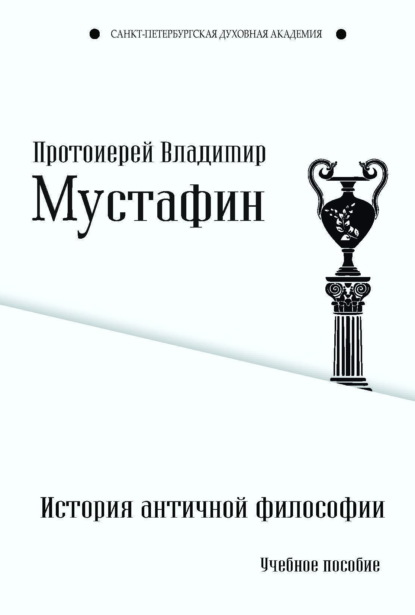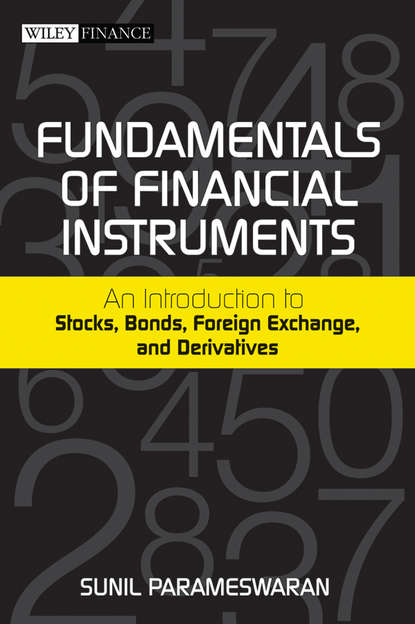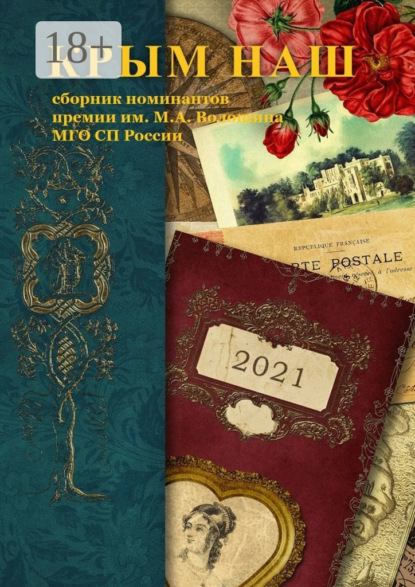Русская философия
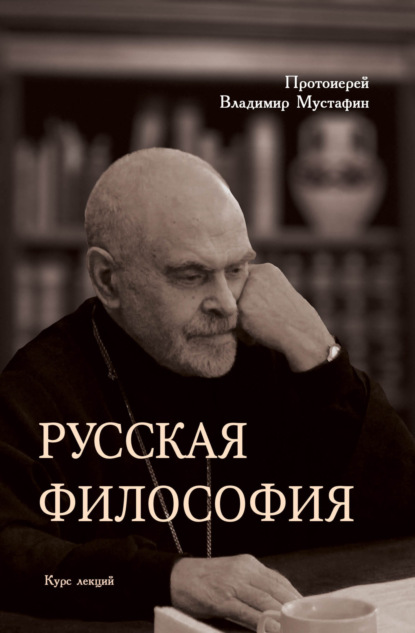
- -
- 100%
- +
Прежде всего подробно излагаются биографические сведения о Сергее Семеновиче Уварове. Акцент ставится на той выдающейся деятельности, которую произвел Уваров в сфере народного просвещения и научного образования в России. Для характеристики глубокой и разносторонней учености самого Уварова архимандрит Гавриил предложил его рассуждение о роли языков в культурной истории человечества.
А роль эта та, что языки суть ничто иное, как истинные корни культуры. Обычно о том или ином народе судят по его словесности и истории. Именно словесность и история считаются (осознанно или неосознанно, – всё равно) основой культуры каждого народа. Но на самом деле настоящей основой каждой конкретной культуры является её язык. Именно язык сам по себе, даже без соответствующей словесности. На практике, конечно, изучение культуры каждого народа сводится к изучению его словесности, письменной прежде всего. Но даже если бы соответствующая словесность оказалась бы по каким-либо причинам недоступной или даже у какого-либо народа письменной словесности и вовсе не оказалось (такое иногда бывает среди т. н. отсталых народов), то и тогда можно было бы оценить культурное состояние такого народа исключительно только по его языку. Причем, под изучением языка следует понимать не изучение только – и даже не столько – его грамматики, сколько изучение тех понятий, которые словами данного языка обозначаются. В этом всё дело. Система понятий, обозначаемых словами конкретного языка, и есть истинная философия народа, носителя этого языка. Остальное, т. е. словесность устная и письменная на этом языке, есть естественное следствие природы этого языка.
Но словесности различных народов имеют различные степени культурного достоинства. Здесь есть своя иерархия. Некоторые языки с соответствующими словесностями имеют неизмеримо большее влияние на всеобщую культуру человечества, чем другие. Здесь следует отметить несколько выдающихся по своему культурному влиянию языков. Например, греческий язык вместе с латинским (происшедшим от него) лежит в основе всей культуры Западного мира. Арабский язык в соединении с персидским есть ключ к пониманию культурной истории всей Западной Азии, являясь в течение долгого времени ключом к познанию даже всей восточной древности. Санскритский язык вместе с другими диалектами Индии есть ключ к пониманию культуры и истории этой части Азии. К этим коренным языкам следует прибавить, конечно, еврейский, различные наречия племен татарских и языки китайский и японский.
Эти рассуждения Уварова относятся к философской дисциплине «философия языка», которую в те времена интенсивно разрабатывал Вильгельм Гумбольдт (1767–1835), с которым он, Уваров, был в личной дружбе. По своему содержанию эти рассуждения суть краткие парафразы соответствующих мыслей Гумбольдта.
Епископ Иннокентий (Борисов; 1800–1857)Кратко изложив некоторые биографические сведения об этом человеке, которые ему были известны до 1840 года, архимандрит Гавриил для характеристики философских взглядов епископа Иннокентия излагает содержание его статьи «О неологизме или рационализме».
Сразу нужно обратить внимание на то, что под рационализмом в этой статье понимается не философский рационализм – т. е. гносеологическая теория, утверждающая, что источником истинного знания является исключительно только человеческий разум, интуитивно получающий это знание в виде общих понятий из метафизической области, – а рационализм богословский, отличительная особенность которого состоит в отрицании сверхъестественного.
Сущность рассуждений епископа Иннокентия на заявленную в заголовке статьи тему состоит в следующем. Рационализмом стали называть в Европе тот способ рассуждения в христианском богословии, который состоит в строгом следовании одним только доводам человеческого разума, без принятия во внимание свидетельств Божественного Откровения. Другое название этого рационализма есть неологизм (т. е. новое богословие в противоположность старому, традиционному, исходящему из признания сверхъестественного откровения в качестве абсолютной истины). Последователи такого способа умствования в богословии называются рационалистами, или неологами (т. е. новыми богословами, в противоположность палеологам – прежним богословам, держащимся традиции). Появился неологизм в Германии во второй половине XVIII века как следствие того рассуждения, что традиционное богословие (что у католиков, что у протестантов) пришло к такому пониманию сущности христианского вероучения, которое не соответствует строго понимаемому библейскому учению (вытекающему из строго научного изучения библейского текста). В результате возникло несколько вариантов «нового» понимания сущности христианства. Некоторые из неологов, как будто бы самые умеренные, предлагали лишь откорректировать христианское вероучение по типу того, что сделали социниане[24].
Но другие неологи в своих выводах шли гораздо дальше. Если человеческий разум вправе решать, что в Священном Писании считать правдоподобным (потому что для этого разума понятным), а что неправдоподобным (= непонятным для человеческого разума), то не логичнее ли и не проще ли вообще в принципе отвергнуть саму категорию «сверхъестественного» как фикцию, и толковать Священное Писание (= Божественное = сверхъестественное откровение) и вообще всё христианское вероучение, на этом Священном Писании сконструированное, – как и любой другой текст, претендующий быть фактором мировоззренческого просвещения, – исключительно только естественно-рационально, в соответствии с природой индивидуального человеческого разума. И тогда всё, что в т. н. Священном Писании находится сверхъестественного, следует пытаться изъяснять как естественное.
Одной из таких попыток изъяснять естественно христианское мировоззрение было утверждение некоторых неологов, что и христианское Божественное Откровение, и построенное на нем христианское вероучение вовсе не оригинальны, а есть результат проникновения в размышления христианских писателей и богословов восточных (древнеегипетских и древневавилонских) и эллинских (неплатонических) религиозно-философских умствований. Другие неологи просто утверждали, что оправданная человеческим разумом естественная религия (деизм) есть единственно здравая религия, основные положения которой и надо отыскивать в христианских текстах (Священном Писании и Священном Предании), а всё остальное там есть намеренные и вредные добавки, обезображивающие истинный смысл этих текстов.
Охарактеризовав таким образом сущность богословского рационализма (неологизма), далее в своей статье епископ Иннокентий разбирает конкретные рационалистические умствования, которыми подвергаются сомнению основные положения христианского вероучения, и дает опровержения этим умствованиям.
Мысли епископа Иннокентия, обнаруженные в этой его статье «О неологизме и рационализме», характеризуют его как христианского мыслителя, специализирующегося именно на апологетической защите христианского вероучения. Прямого выражения собственно философских взглядов здесь нет. Но косвенно выраженное отношение к философии здесь всё же имеет место. Если христианское вероучение заключает в себе абсолютную мировоззренческую истину, определяющую умственный мир и поведение верующего в эту истину человека, то тем самым выражается косвенное отношение ко всем философским попыткам обрести мировоззренческую истину помимо христианства. Отношение это – отрицательное. Если истина уже дана, то искать её нет нужды.
Федор Михайлович Надеждин (1813–1876)В конце всей своей работы архимандрит Гавриил поместил пространный библиографический список всей той литературы на русском языке, в которой находился, по его мнению, весь письменный материал, относящийся к теме всего его сочинения, – к истории русской философии. После этой библиографии помещена рубрика «Примечания», в которой, вопреки обычному смыслу этого раздела ученых сочинений (состоящему в том, что здесь должны излагаться подробности, лишь косвенно относящиеся к основному тексту сочинения), автор просто продолжил, как и в основной части работы, излагать информацию о тех русских деятелях, в умствованиях которых и обнаруживает себя, по его мнению, русская философия. О некоторых лицах в этом списке даются лишь одни упоминания, что вот такой-то человек учился там то, преподавал там то[25].
Никакой информации о содержании умствований этих лиц не дается. Но вот сообщение о Федоре Михайловиче Надеждине содержит в себе и информацию о его мыслях.
Федор Надеждин в 1833 году, когда он закончил Санкт-Петербургскую академию, был определен учителем философии в нижегородскую семинарию. Там, кроме всего прочего, им было составлено сочинение (видимо, в качестве учебного материала) на тему философского учения о сущности религии. Основное положение этого учения состоит в том, что в душе религиозного человека действуют все элементы души – и ум, и воля, и чувство. Эти элементы располагаются при этом в определенной иерархии. И первое место в этой иерархии принадлежит вовсе не уму (умозрению), а чувству (сердцу). Ибо даже и не умственно образованный человек может быть примерно религиозно благочестивым, что хорошо известно из практической жизни. И, что может быть ещё более убедительным, даже и умственно образованный человек, но при этом принципиальный философский скептик, сомневающийся даже в бытии окружающих его вещественных предметов, вполне может быть религиозным человеком и по своим чувствованиям, и по нравственным действиям, находя выход из своего философского скептицизма в религиозной вере[26].
Однако же в области религии за разумом сохраняется очень важная функция – предохранять от суеверия, т. е. от замены истинного объекта религиозного почитания – Бога, объектами ложными, подходящими под рубрику «идолы». А для осуществления этой функции разуму необходима определённая степень образования. Из такого понимания психологической сущности религии вполне естественно вытекает признание необходимости онтологического бытия Бога. А это признание является основанием соответствующей нравственной практики[27].
Однако с точки зрения христианского богословия такое понимание сущности религии явно недостаточно. И этот недостаток восполняется именно содержанием богословия. Без этого восполнения теряет дидактический смысл и сама философия религии.
Это изложение философского понимания сущности религии, предпринятое Федором Надеждиным, не есть его оригинальное изобретение. Оно есть повторение того учебного материала по теме, которое он усвоил во время своего обучения в Санкт-Петербургской духовной академии.
Адам Андреевич Фишер (1799 (1797) – 1861)Из биографических сведений об этом человеке архимандрит Гавриил упоминает только дату его рождения – 1797 год, место получения им высшего образования – Венский университет, и дату занятия им должности профессора Санкт-Петербургского университета – 1832 год. А далее следует цитата из рассуждения Фишера, в котором он излагает свое понимание сущности той философии, которую он считает единственно здравой и единственно годной для школьного преподавания молодому поколению. Это понимание сущности философии содержит в себе следующие важнейшие три элемента. Философия должна содержать в себе: 1) уважение к религии, под которой подразумевается христианская вера (в православном её догматическом толковании); 2) уважение к государственной власти в стране; 3) безусловное повиновение существующим законам в стране. Что касается уважительного отношения философии к христианской вере, то оно должно проистекать из признания философией наличия в христианском вероучении Божественного Откровения, сомневаться в истинности которого на основании рассуждений принципиально несостоятельного человеческого разума нелепо. Уважение к государственной власти в стране и, как следствие, уважение к правопорядку в стране обосновывается естественной необходимостью мирной жизни в государстве и обществе, которая только, мирная жизнь, и может способствовать постепенному совершенствованию общественного устройства. Намеренно сеять в обществе раздор и беспорядки, во всяком случае, не есть действенное средство общественное устройство совершенствовать[28].
Василий Николаевич Карпов (1798–1867)В 1840 году, когда было опубликовано рассматриваемое сочинение, архимандрит Гавриил мало что знал о В. Н. Карпове. Он даже не знал точной даты его рождения. Назвал 1800 год, а на самом деле это был 1798 год. Далее он сообщает краткие биографические сведения. Окончил В. Н. Карпов воронежскую семинарию, в которой, кроме всего прочего учебного материала, перенял философские знания от тамошнего преподавателя философии протоиерея Иоанна Зацепина, которого сам архимандрит Гавриил, по-видимому, хорошо знал, потому что дает ему характеристику как знатоку Шеллинга. Попав для продолжения образования в Киевскую академию, Карпов и здесь проявил усердие в усвоении философских знаний, которые здесь преподавал протоиерей Иоанн Скворцов, выпускник, кстати сказать, Санкт-Петербургской академии.
В результате накопления философской эрудиции у Карпова сложилась целая система философских положений. Сущность этой системы архимандрит Гавриил видит в следующем. Карпов, по его мнению, предпринял попытку объяснить этические и гносеологические проблемы в сознании человека при помощи анализа взаимоотношений духовного и телесного элемента в сущности человека. Эти антропологические элементы восходят к своим онтологическим основам – к, соответственно, Богу и вещественности (материи). Задача состоит в том, чтобы Бог и вещественная природа пришли бы в гармоническое взаимодействие друг с другом. Но в практической жизни этого почти никогда не бывает. В этом и заключается основная причина всех нравственных и гносеологических проблем в сознании человека. В нравственности борются между собой нравственные нормы, имеющие свой источник в Боге, и аффектированное стремление индивида жить по похотям своей чувственной природы, которая видит в нравственных нормах помеху для своей свободы. В области разумной деятельности борются между собой логические нормы, источник которых тоже в Боге, и произвольные, вне логических норм умствования, целью которых является словесное оправдание уклонений на практике от исполнения нравственных норм. Такой способ философствования Карпова архимандрит Гавриил обозначает термином «синтетизм»[29].
Священник Федор Федорович СидонскийИнформация здесь крайне скудная. Сообщается только, что Сидонский после окончания Тверской семинарии в 1825 году попал в Санкт-Петербургскую академию, закончив которую, он некоторое время был в этой академии преподавателем языков (английского и французского) и философии, а в 1835 году его служба в академии прекратилась. О том, что Сидонским было написано «Введение в науку философии», напечатанное в 1833 году, не упоминается. Но, при этом, понимание сущности и задач философии Сидонским, находящееся в этом «Введении», архимандрит Гавриил кратко излагает без всяких комментариев. Предмет изучения философии есть, во-первых, Вселенная (т. е. окружающий человека предметно-чувственный мир), и, во-вторых, свойства человеческого познания (т. е. гносеология), при помощи которых познание окружающего мира можно осуществить. Познавательная способность человека состоит из разума и опыта (т. е. органов внешних чувств). И всё. К этому добавляются два замечания: что метод познания у священника Сидонского есть математический и что философия у него разделяется на логику, метафизику и ифику (= этику). Без объяснений (необходимость которых очевидна) эти замечания имеют характер механического повторения общих мест, никакого дидактического воздействия не производящего.
Василий Афанасьевич СбоевСообщается, что этот человек родился в 1810 году в Казанской епархии и что в настоящее время (время написания самого сочинения архимандрита Гавриила) он является учителем в Казанской семинарии. Для ознакомления с философскими размышлениями Сбоева берутся к рассмотрению два его сочинения – одно опубликованное, другое только рукописное. Опубликованное (в ученых записках Казанского университета) сочинение есть статья под названием «Гносис и гностики», в которой понимание сущности философии сводится к категорическому утверждению автора, что незыблемой и единственной основой философского знания может быть только Божественное Откровение. Мера уклонения от этой основы в философском рассуждении соответствует мере уклонения его от истины. Рукописное сочинение Сбоева имеет название «О нравственно-духовной жизни человека». По своему характеру оно представляет собою психологический анализ и гносеологическую оценку различных элементов душевного содержания человека. Сначала дается общая познавательная оценка содержания души человека, состоящая в том, что душа человека есть хранилище всех истин, доступных человеческому мышлению. Но эти истины хранятся в душе не в виде ясных и четких понятий, а в виде неких, метафорически говоря, необработанных заготовок будущих понятий. Автор эти заготовки называет «предощущениями». Задача умственной работы человека состоит в том, чтобы эти «предощущения» обработать и превратить в определенные понятия, необходимые для совершенствования умственной жизни. К этому гносеологическому рассуждению добавляется то соображение, что совершенствование умственной жизни человека не может быть достаточно глубоким и прочным, если оно не сопровождается религиозным чувством, высшим проявлением которого является христианская любовь.
В этих философских размышлениях Сбоева нетрудно узнать тот умственный материал, который он вынес из учебных курсов духовных школ. Ориентация на Божественное Откровение как на критерий отличия истинных философских суждений от неистинных есть вообще элементарное убеждение христианских мыслителей, впервые сформулированное ещё святым Иустином Мучеником-Философом и с тех пор повторяемое во всех христианских учебных пособиях по философии. В анализе душевного содержания человека на предмет отыскания в нем понятий как познавательных элементов легко распознать, во-первых, декартовскую гносеологическую теорию «врожденных идей» (у Сбоева: душа человека есть хранилище всех истин, доступных человеческому уму), а во-вторых, дополнительное разъяснение Лейбница к этой теории, состоящее в том, что врожденные идеи (= понятия) хранятся в душе не в логически и словесно раскрытом виде, а в виде неких душевных потенций (= возможностей) будущих понятий, обозначаемых у Лейбница термином «petites perceptions» (у Сбоева: предощущения).
Иван Андреевич КедровРодился И. А. Кедров в 1811 году в семье сельского причетника. Учебу проходил в Угличском духовном училище, Ярославской семинарии и Санкт-Петербургской академии. После окончания академии вернулся в Ярославскую семинарию, где и проходил службу в качестве преподавателя и библиотекаря. Во время учебы в семинарии и, особенно, академии, и будучи уже преподавателем, Кедров глубоко интересовался философией. Обучаясь в академии, он с помощью своих товарищей однокашников перевел и издал в 1836 году в Санкт-Петербурге «Курс философии» Жерюзе. После окончания обучения в академии, будучи уже преподавателем в Ярославской семинарии, он опубликовал специальное философское сочинение «Опыт философии природы».
Для ознакомления с философскими взглядами Кедрова архимандрит Гавриил предложил вниманию своих читателей его рассуждение «Критический взгляд на науку философии». В этом рассуждении, кроме всего прочего, Кедров старается объяснить разницу между философией и естествознанием. Отличие философии от естественных наук состоит в самой сущности философского знания, которая обозначается Кедровым словом «выспренность»[30].
А «выспренность» Кедров толкует как «возвышение над всем пространственным и временным». Весь предметно-чувственный мир, вся естественная природа является реальностью, существующей в условиях (обстоятельствах) пространства и времени. Эта реальность является объектом изучения естественных наук. Реальность же сверхъестественная, находящаяся вне условий (обстоятельств) пространства и времени, находится в компетенции философского (метафизического) ведения. В этом вся принципиальная разница между естественными науками и философией. Следствием этой разницы является то, что ученые-естественники исследуют окружающий человека предметно-чувственный мир исключительно только в его фактическом содержании. Их не интересуют такие вопросы, как, например, вечно ли существует этот чувственный мир или он получил начало во времени, как понимать зло и какова причина его возникновения, имеет ли человеческая жизнь смысл или нет. Разрешением этих и подобных (метафизических) вопросов как раз и занимается философия.
Это рассуждение Кедрова по своему содержанию есть просто повторение постановки вопроса о соотношении естественно-научного знания и философии, и его разрешения, которое к тому времени уже было хорошо известным в Европе и в духовных школах России. Будучи воспитанником семинарии и студентом академии, Кедров, естественно, усвоил учебный материал, а став преподавателем, он, что тоже естественно, этот учебный материал уже преподавал. Данное рассуждение как раз и было письменным изложением одного из пунктов учебной программы.
ВыводыУже в самом начале своей «Истории русской философии» архимандрит Гавриил (Воскресенский) дает вполне определенное понятие о характере русской философии: признание в качестве источников философского знания в равной степени разума и опыта (= органов внешних чувств), но при этом критерием истины в получаемом из этих источников философском знании должно быть христиански понимаемое Божественное Откровение. Итак, русская философия есть христианское вероучение, корректирующее показания разума и опыта (= органов внешних чувств).
Но в собственно историческом изложении примеров русского философствования архимандрит Гавриил под философией понимает прежде всего мировоззренческие (метафизические) убеждения, зафиксированные или в устном народном творчестве (поговорках, например), или в литературных текстах, образованных по стандартам тогдашнего времени интеллектуалов. А так как в историческом прошлом России интеллектуалами были преимущественно христианские священнослужители, то и изложение этими священнослужителями содержания христианского вероучения, фиксируемое в своем сочинении архимандритом Гавриилом, тоже попадает под рубрику «русская философия». То, что христианское вероучение с формальной точки зрения есть философия, это бесспорно, ибо в христианском вероучении в качестве его теоретического содержания есть религиозная метафизика (богословие в тесном смысле: триадология и христология; плюс учение о спасении), а любая метафизика, в том числе и метафизика религиозная, и есть сущность философии. Но именно «русскости» в этой философии никакой нет. Христианское вероучение, даже если его рассматривать как философию, не может иметь в своем содержании признака национальности.
В списке лиц, которых архимандрит Гавриил в своей «Истории русской философии» представил как носителей русской философии, большая их часть вообще к философии в тесном смысле слова (т. е. философии как гносеологии) не имеет никакого отношения. Но мысли этих лиц, изложенные архимандритом Гавриилом, все-таки представляют собою бесспорную умственную ценность и потому вызывают живой интерес у читателя. Причина проста: эти мысли дают реальное преставление о той умственной атмосфере в российском обществе, которая в соответствующей исторической эпохе существовала. Так что всему сочинению архимандрита Гавриила (Воскресенского) более подходит название «Очерки (или наброски) истории русской общественной мысли».
Яков Николаевич Колубовский (1863–1929)

Второй опыт изложения истории русской философии принадлежит Якову Николаевичу Колубовскому (1863–1929). Основное сочинение, в котором он это изложение произвел, называется «Философия у русских». Это сочинение было напечатано в качестве краткого приложения к переведенной им же книге Ибервега «История новой философии в сжатом очерке» (СПб., 1890)[31]. Дополнительное сочинение Колубовского по этой же теме есть «Материалы для истории философии в России», напечатанные в номерах 4–6 журнала «Вопросы философии и психологии» за 1890–1891 годы[32].
Названия этих сочинений красноречивы – в них говорится не о «русской философии», а о «философии у русских» и о «философии в России». Совершенно очевидно, что «русская философия» и «философия в России» это далеко не одно и то же. Так на самом деле и думал Колубовский. Для него философия в России есть отнюдь не русская философия, а есть европейская философия в различных её вариантах, перенятая русскими и культивируемая в России. И началом этого процесса усвоения русскими европейской философии следует считать время конца XVIII – начала XIX веков. Сам этот процесс распространения европейской философии в России есть естественное продолжение распространения вообще европейского просвещения в России, начатого в результате радикального преобразования государства и общества Петром I. Усвоение русским различных вариантов европейской философии свелось, по сути дела, к простому повторению европейских оригиналов – вольфианства, французского просвещения, немецкой классической философии, позитивизма, материализма. Однако заимствованию русскими европейской философии все же нельзя придавать абсолютный характер. Среди русских философов были и носители того типа философствования, который имел несомненно самобытный характер, совершенно очевидно бывший не простым пересказыванием чужих мыслей. В качестве примеров таких носителей оригинальной русской философии Колубовский называет Е. Е. Голубинского, В. Н. Карпова, П. Д. Юркевича, т. е. преподавателей русских духовных (= богословских) школ. Их философская позиция характеризуется как «теизм». Сущностью «теизма» является, во-первых, философская защита христианского вероучения, а во-вторых, глубокая преданность Отечеству и монархии как традиционной форме управления русского государства и общества. Православному «теизму» соответствует система взглядов славянофилов, которую поэтому тоже надо признать самобытной, не проистекающей из европейского влияния.