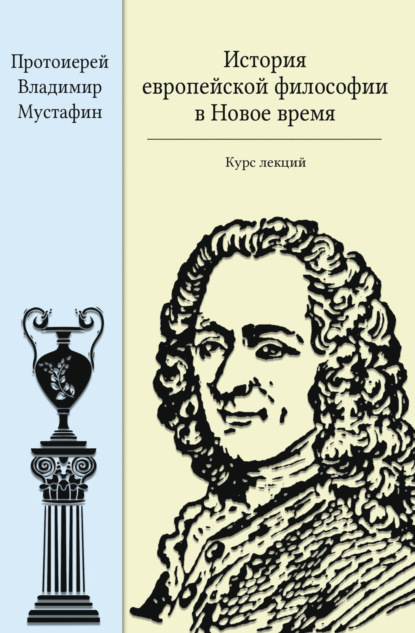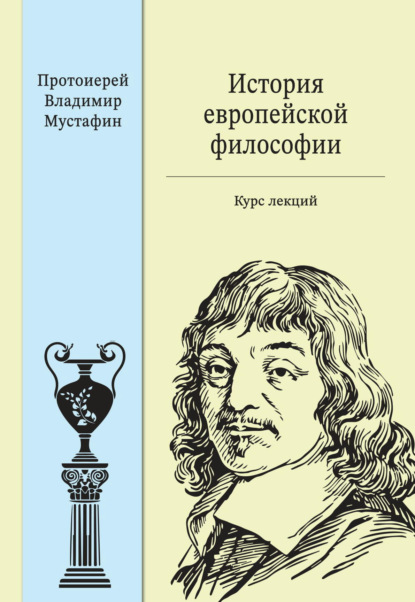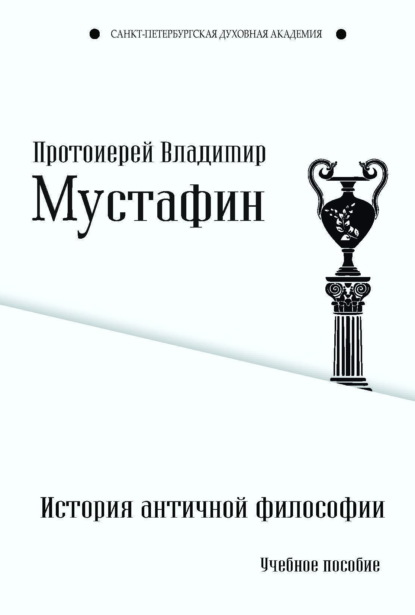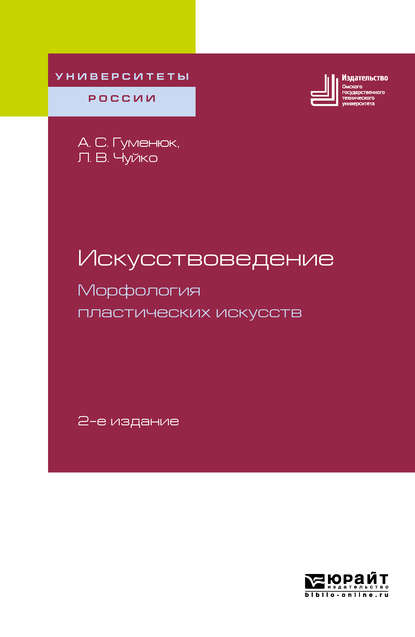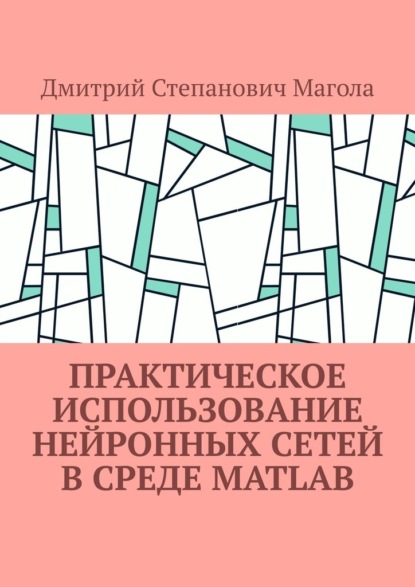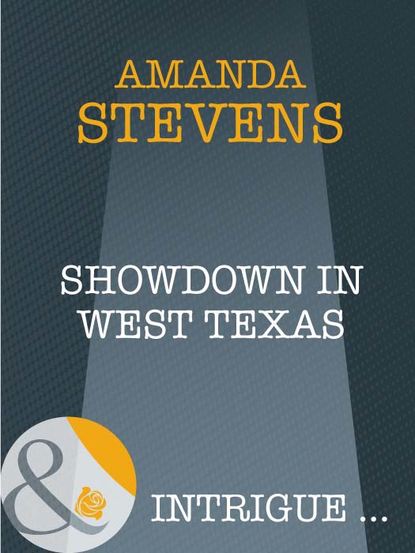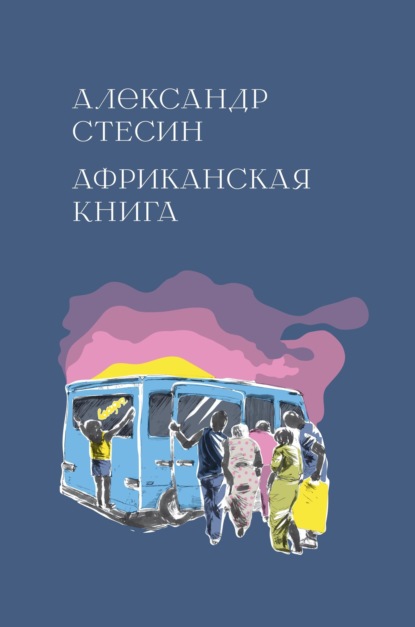Русская философия
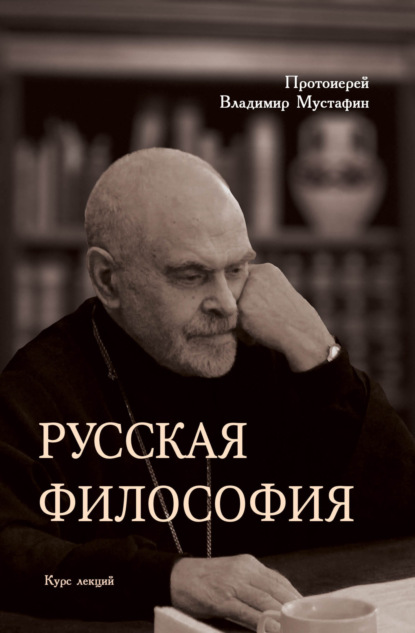
- -
- 100%
- +
К этой основной мысли Чернышевского на тему происхождения искусства добавляется (без какого-либо, кстати, предварительного объяснения) другая мысль. Оказывается, что человек, искусственно воспроизводя какой-либо фрагмент естественной природы, делает это вовсе не случайно (т. е. по непонятным причинам), а по вполне определенным внутренним побуждениям. Во-первых, искусственно воспроизводится не всякий фрагмент природы, случайно попавший в поле внимания индивида, а только тот фрагмент естественной природы, который вызвал у индивида какой-то интерес. Во-вторых – и это в данном случае самое важное, – к искусственному воспроизведению какого-то фрагмента естественной действительности индивид непременно добавляет свое самостоятельное умственное толкование (осмысление) этого фрагмента естественной действительности. Особенно эта опять же искусственная добавка в виде толкования определенного фрагмента естественной природы к искусственному же воспроизведению самого этого фрагмента природы бросается в глаза в едва ли не самом важном роде искусства – в поэзии (художественной словесности)[45].
В дальнейших своих рассуждениях Чернышевский, правда, объяснительную функцию поэзии без всяких оговорок распространяет на все виды искусства[46]. Чтобы объяснительную функцию искусства подтвердить наиболее простым и убедительным образом, Чернышевский сравнивает искусство с историей. Различие между историей и искусством только в том, что история ведет речь о всем человечестве (точнее: о каком-то фрагменте человечества, но, во всяком случае, о каком-то обществе людей), а искусство имеет своим объектом воздействия индивидуального человека. Сходство же состоит в том, что как история, так и искусство состоят из двух аналогичных стадий своей реализации. История, во-первых, излагает исторические факты. На этой стадии история не есть ещё наука, она есть просто свод фактов, или летопись. Во-вторых, история есть объяснение изложенных ею же исторических фактов. И это и есть её, истории как науки, наиважнейшая функция. В искусстве то же самое. Прежде всего искусство состоит в искусственном воспроизведении какого-либо предмета или фрагмента естественной природы, которые, предмет или фрагмент, привлекли к себе внимание художника. А затем искусство – и это заметно лучше всего в поэзии – толкует эту искусственно воспроизведенную естественную реальность, выявляя в ней какой-то рациональный смысл.
Чуйко, изложив в таком виде эстетическое учение Чернышевского, усмотрел в этом учении существенное противоречие. С одной стороны, Чернышевский ограничивает значение искусства, указывая на единственную его функцию – воспроизводить естественную природу, и только. А с другой стороны, утверждается наличие в искусстве ещё и функции толкования воспроизведенных фрагментов природы. Так вот, по мнению Чуйко, вторую функцию искусства, толкование воспроизведенных природных фрагментов, невозможно осуществить, не отказавшись предварительно от первой функции – самого этого искусственного воспроизведения природы[47].
ПозитивистыРусский материализм, по мнению В. В. Чуйко, был явлением в России чисто случайным и преходящим. Поэтому он вскоре растворился в философском движении более влиятельном и широком – в позитивизме Огюста Конта. Среди сознательно перенявших англо-французский эмпиризм-позитивизм российских интеллектуалов Чуйко выделяет В. А. Милютина (1826–1855), П. Л. Лаврова (1823–1900), Е. В. Де Роберти (1843–1915), Н. К. Михайловского (1842–1904), В. В. Лесевича (1837–1905) и П. А. Милославского (1846–1884). Но по-настоящему содержательной информации о философских суждениях этих мыслителей Чуйко не предлагает. Общие положения позитивистской системы, с которыми никто не будет спорить в силу их совсем уж элементарного характера и, потому, общеизвестности, вперемешку с отрывочными и случайно выбранными сведениями о мыслях этих российских философах-позитивистах, по которым, случайно выбранным сведениям, невозможно составить более или менее полного и систематически сложенного понимания о конкретном содержании философских умствований каждого из этих лиц, приводит только к одному выводу: вот, были в России в XIX веке такие-то и такие философы, перенявшие западноевропейский позитивизм, и … всё, ничего более. Кто уже знаком с содержанием философствования этих лиц, тот, конечно, согласится с этим выводом. А кто не знаком, тот толком так и не поймет, на каких – и достаточных ли – основаниях эти философы квалифицируются как позитивисты. А ведь «История русской философии» В. В. Чуйко по своему жанру есть учебник, а любой учебник предназначен для воздействия на незнающих предмет изложения, а не для знающих.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Гавриил (Воскресенский), архим. История философии. Часть VI. Казань, 1840. С. 3.
2
Сразу обращает на себя внимание необычность такого понимания сущности философии. Как правило ведь, под философией понимают довольно замысловатые гносеологические умствования, на которые де способны лишь какие-то особо умственно одаренные городские интеллектуалы. А в данном случае под философией понимается традиционно сложившееся мировоззрение – всегда, кстати, религиозное – любого народа, даже не имеющего письменности на своём языке, о характере которого, каждого конкретного мировоззрения, можно судить по свидетельствам соответствующей народной словесности, сформированной ещё в сельском быту. При таком широком толковании сущности философии само собой становится понятным, что философия должна быть свойственна всем без исключения народам мира, ибо у каждого народа есть свое мировоззрение. Гносеологические рассуждения, при всем том интересе, которые они в городской культуре возбуждают к себе, все же не составляют цель, а, значит, и основную ценность философии, они лишь подготовка к метафизическим размышлениям. А метафизика как раз и есть цель и основная ценность философского умствования, ибо она, метафизика, содержит в себе сущность любого мировоззрения. А так как несомненно, что мировоззрение присуще всякому народу, то, следовательно, всякий народ имеет свою философию, выражением которой и является его, конкретного народа, словесность, пусть бы даже и в устном её только изложении. С этим умозаключением невозможно спорить, ибо оно есть, в сущности, просто естественный вывод из констатации исторических фактов.
3
Гавриил (Воскресенский), архим. История философии… С. 5.
4
Там же.
5
Следует обратить внимание в этом ходе мыслей архимандрита Гавриила на два момента. Во-первых, привлекая внимание читателя своего сочинения на особенности национального характера русского народа, архимандрит Гавриил как будто бы подводит читателя к выводу о соответствующем этому характеру своеобразии русской философии как метафизики. Если бы это было так, то это было бы и логично, и соответствовало бы контексту рассуждения. Но вместо этого ожидаемого вывода о характере русской философии как метафизики вдруг делается вывод гносеологический: из характера русского народа выводится склонность русских к … рационализму, сочетаемому с эмпиризмом (= сенсуализмом). Такой неожиданный переход из метафизики в гносеологию вызывает недоумение. Дело в том, что гносеология есть следствие и результат городской культуры, предполагающей устойчиво сложившуюся традицию какого-то школьного образования, а любой народный характер, в том числе и русский, сложился именно в деревенской среде, в которой никакого школьного образования не было, а, значит, и никаких четко сформировавшихся гносеологических размышлений быть не могло. Во-вторых, для обоснования склонности русских к (гносеологическому) рационализму архимандрит Гавриил ссылается на некоторые русские народные поговорки, в которых есть упоминание об уме. Но это недоразумение. «Ум» русских поговорок недопустимо отождествлять с «разумом» рационалистической гносеологии. «Ум» в русских поговорках есть обозначение практической сметки и находчивости в бытовых житейских отношениях, и только. Из, например, практического умения вести торговлю успешно никаких гносеологических выводов произвести невозможно.
6
Заметно сходство с дуалистической древнеперсидской религией – зороастризмом.
7
Гавриил (Воскресенский), архим. История философии… С. 21–22.
8
Там же. С. 21.
9
Там же. С. 32.
10
Это поучение Владимира Мономаха хорошо известно в учебных курсах истории русской словесности. Некоторые отрывки из него даже стали крылатыми фразами, воспринимаемыми как русские народные пословицы. Например, «Страх Божий и любовь к отечеству есть основание добродетели», «Ни пост, ни уединение, ни монашество не спасет вас, но благодеяния», «Всякое достояние есть Божие и поручено вам только на время», «Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце, и думайте: мы тленны, ныне живем, а завтра во гробе», «Леность есть мать пороков, берегитесь её. Человек должен всегда заниматься каким-нибудь делом. Не имея дела, вместо суетных мыслей следует повторять выученные наизусть молитвы или хотя бы самую краткую молитву “Господи помилуй!”». Но, понятное дело, к философии в тесном смысле слова, т. е. к философии как гносеологии, эта словесность не имеет отношения.
11
Тут естественно возникнуть недоумению: какая может быть проверка «божественного писания» для церковного православного христианина? Еще в середине первого тысячелетия христианской эры канон Священного Писания (т. е. содержание христианского Божественного Откровения) был четко определен и всякие его проверки на истинность тем самым были исключены. Преподобный Нил Сорский, конечно, не сомневался в истинности христианского Священного Писания. У него «божественные писания» не есть синоним «священного писания». И не только у него. В среде тогдашних русских церковных «грамотеев» под «божественными писаниями» подразумевалось не только Священное Писание в тесном смысле, но и творения святых отцов Церкви, правила святых апостолов и Соборов с толкованиями на эти правила и с добавлениями к этим толкованиям, указы и распоряжения высшей светской правительственной власти в Византии, даже жития святых. Так вот, преподобный Нил Сорский относился критически не к Священному Писанию в тесном смысле слова, а именно к этим книжным текстам, которые не подходили под рубрику «священное писание», но были авторитетными, по разным причинам, среди тогдашних русских церковных «грамотеев».
12
Но это уже есть тема для русской церковной истории, а не для истории русской философии.
13
Гавриил (Воскресенский), архим. История философии… С. 50.
14
Что касается Сократа, то это утверждение не совсем точно. Если Сковорода действительно в своей скитальческой жизни вращался в среде преимущественно сельских жителей, то Сократ провел почти всю свою жизнь в столичном городе Аттики Афинах, в среде высокообразованных тогдашних городских интеллигентов, «софистов», многие из которых были его учениками и принадлежали к родовой аристократии (например, Алкивиад, Критий, Ксенофонт, тот же Платон).
15
С этими характеристиками архимандрита Гавриила отчасти можно согласиться, если под «здравым смыслом» понимать самостоятельные размышления индивида на тему самопознания, а под «откровениями небесного разума» понимать христианское понимание человеческой сущности. Но при этом нельзя не обратить внимание на явное недоразумение: если индивид принимает христианское толкование сущности человека, то тогда никакого самостоятельного самопознания не происходит. Вместо него просто перенимается христианское толкование. Так оно на самом деле и должно быть. Истину (в данном случае истину о сущности человеческой природы) можно только перенять от единственного источника истины – Божественного Откровения, но не пытаться её открыть в бесплодном самокопании. Но ведь речь-то идет о самопознании как о несомненном принципе философского познания, который, принцип, и сам архимандрит Гавриил как будто бы не ставит под сомнение.
16
Тут естественно возникнуть недоумению: неужели же для того, чтобы появились на Руси свои Платоны и Аристотели, необходимо появиться прежде всего русскому Сократу, т. е. самому Сковороде, чтобы он начал великое философское дело на Руси всего лишь обучением людей добродетели. Ведь обучение людей добродетели, т. е. правилам нравственности, есть дело вполне, хотя и трудное, потому что не всегда успешное, но вполне себе рутинное. Этим занимались и занимаются все традиционные религии. Православное христианство худо-бедно обучало нравственности Русь со времени князя Владимира-Просветителя до времени жизни Сковороды на протяжении восьми сотен лет. Чаемое появление русского Сократа в такой ситуации лишено всякого смысла, ибо его основная функция – обучение добродетели-нравственности, уже давно осуществляется и без него. А ожидаемое Сковородой появление «в Руси» после него, русского Сократа, русских Платонов и Аристотелей, пусть и в каком-то далеком будущем, ещё более непонятно. Зачем появляться русским копиям Платона и Аристотеля и что им делать, если дело реальных исторических Платона и Аристотеля считается завершенным с возникновением христианства? Платон и Аристотель ведь были, по наиболее распространенному мнению, подготовителями к появлению христианства. Но вот христианство уже существует. Дело сделано. Надобность в поиске философской истины, чем занимались Платон и Аристотель и их последователи, исчезла с обнаружением этой истины в христианском вероучении. Именно поэтому византийский император Юстиниан в 529 году прекратил своим указом деятельность философских школ в своем государстве. Но если в VI веке в христианской Византии было констатировано отсутствие необходимости в помощи Платона и Аристотеля для утверждения христианского мировоззрения в обществе, то чем обосновать мысль о желательности появления в российском христианском обществе русских аналогов Платона и Аристотеля в XVIII веке?
17
Гавриил (Воскресенский), архим. История философии… С. 62.
18
Многое во всей этой «троичной» теории самопознания вызывает сомнение. Прежде всего вызывает сомнение само деление самопознания на три варианта. Традиционно под самопознанием имелось в виду именно познание индивидом самого себя, под которым подразумевалось внимание и анализ индивидом своего душевного содержания (ибо душевное содержание индивида только и доступно для познания самим индивидом). Такое толкование самопознания возводилось как раз к надписи на дельфийском храме самим Сократом, который и перенял это толкование и сделал его методом своего философского умствования. Обычно считается, что если до Сократа философы интересовались изучением внешнего, предметно-чувственного мира, то, вот, Сократ указал для философского исследования его единственно истинный объект – душевный мир индивида. Кстати, в этом переводе предмета философского исследования от объективного, предметно-чувственного мира к миру субъективному, душевному заключается главная причина дальнейшего расцвета древнегреческой философии в трудах Платона и Аристотеля. Ведь этот расцвет обусловлен рационалистической гносеологией обоих этих мыслителей, последователей Сократа. А рационалистическая гносеология мыслима только в применении к метафизике, которая, в свою очередь, мыслима только как потребность души. Внутренний мир человека (душа) требует метафизики, метафизика требует признания рационализма в качестве единственно правильной гносеологии, оправдывающей возможность истинного (мировоззренческого) знания. А то и другое вместе (рационалистическая гносеология плюс метафизика) и есть истинная философия. Познание же внешнего, предметно-чувственного мира есть функция органов внешних чувств, что к философии не имеет прямого отношения. Второй способ самопознания, т. е. познание самого себя как гражданина, просто не поддается уразумению. Ведь гражданское самоопределение личности есть самостоятельный душевный акт этой личности, вытекающий из вполне осознанной этой личностью своей обязанности перед обществом предпринимать вполне определенные действия, направленные на поддержание существования и порядка в обществе, к которому эта личность принадлежит. Гражданином конкретного общества личность обязана быть вне зависимости от результатов своего самопознания. То есть, определение гражданского состояния находится вне сферы компетенции индивидуального сознания, а находится в компетенции общественного сознания, которому индивид обязан не только внешне подчиниться, но и внутренне, в своем сознании согласиться с необходимостью этого подчинения. Третий способ самопознания, т. е. познание самого себя как человека вообще, тоже выглядит неправдоподобно и по той же причине, что и второй способ. Ведь в начале всякого сеанса самопознания (т. е. обращения внимания на содержание своего душевного мира) индивид остается один на один с самим собой. И в этом душевном мире он констатирует наличие только одного себя (как единственного обладателя всего содержания этого наблюдаемого им душевного мира), вполне конкретного индивида, но никак не «человека вообще». Понятие о «человеке вообще» приходит к индивиду не из его индивидуального сознания, а из того же общественного сознания (в виде определенного антропологического учения, зафиксированного в каждом традиционном мировоззрении), из которого к индивиду приходит и понятие о его, индивида, обязанностях перед обществом, к которому он принадлежит.
19
Гавриил (Воскресенский), архим. История философии… С. 68.
20
Там же. С. 69.
21
В этих рассуждениях Сковороды под просвещением – обучением – воспитанием народа подразумевается, конечно, мировоззренческое просвещение, а не прикладное знание. В пользе распространения прикладного знания в среде народа иностранцами вряд ли можно сомневаться.
22
Там же. С. 77.
23
Сам этот аргумент в пользу монархического управления государством – что монархическое управление естественнее, удобнее и эффективнее – непременно нуждается в оговорке. А именно: да, монархическое управление государством естественнее и удобнее (хотя бы потому, что при таком управлении нет нужды в профессиональных посредниках-бюрократах, т. е. чиновниках, количество которых, как свидетельствует практика, имеет упорную тенденцию к увеличению, и содержание которых, как правило, превышает пользу от осуществления ими своих обязанностей), но при одном только условии – если на месте монарха будет личность, объективно способная осуществлять должным образом свое управление государством. Обычное оспаривание монархической формы управления как раз и состоит в том, что приводят примеры несоответствия власти монарха и способности какого-то конкретного монарха эту власть употреблять должным образом.
24
Социниане признавали авторитет Священного Писания (правда, только Нового Завета, но не Ветхого), но не всего его текста, а только тех его фрагментов, которые выдерживают критику человеческого разума. Чудеса отвергались. Троица не признавалась. Христос был выдающимся человеком, но не Богом.
25
Из такого рода сведений состоит информация по первым двум пунктам списка – 1) Александр Степанович Лубкин; и 2) Петр Сергеевич Коптырев.
26
Примеры сочетания гносеологического скептицизма и религиозной веры обладают особой назидательностью. Ведь гносеологический скептицизм есть во всяком случае следствие подчеркнуто философской установки – опираться в поисках истины на познавательную способность индивидуального разума, а не на суждения традиции, навязываемой индивиду той общественной средой, в которой индивид оказался при своем биологическом рождении. И то, что при этом, при последовательном осуществлении философской установки (полагаться исключительно только на суждения своего собственного разума) индивид приходит к отрицательному выводу, означающему отказ от самой этой изначальной философской установки, и есть свидетельство необходимости искать другой источник истины в душе помимо разума. А таким источником может быть только сфера (высших) чувствований, где критерием определения «что есть истина» является общая психическая вера, при последовательном своем осуществлении неизбежно переходящая в веру религиозную.
27
На этом, на признании необходимости бытия Бога и на признании необходимости осуществлять на практике тот нравственный порядок, который из признания бытия Бога вытекает с логической необходимостью, и заканчивается полезная работа философского понимания сущности религии. Но таким способом, т. е. опираясь исключительно только на ресурсы философии религии, можно было оправдать только деистическое понимание сущности религии, свойственное лишь городским умствующим обывателям западной Европы. И эти обыватели, все без исключения, противопоставляли это свое понимание сущности религии христиански-церковному пониманию, которое оценивали как интеллектуально отсталое и политически вредное, а свое понимание считали более интеллектуально основательным и политически более прогрессивным.
28
Относительно уважения к государственной власти в России и к её правопорядку может возникнуть, кроме всего прочего, следующее недоумение – а при чем здесь вообще философия? Ну, во-первых, если под философией понимать не только теоретическую философию (гносеологию и метафизику), но и философию практическую, т. е. этику, то как раз философия здесь вполне уместна. А во-вторых, и это самое важное, наличная власть в России, как и вообще во всяком государстве, есть, согласно христианскому вероучению, установление, прямое или косвенное (как попущение), Бога – «Всякая власть от Бога». Так как же не уважать установление Бога? Можно гражданскую власть в каком-либо государстве не любить, если эта власть держится иноверия или, тем более, безверия, но не уважать нельзя. И сознание в себе наличия этой коллизии и необходимости соответствующих действий и есть философское умствование.
29
У самого архимандрита Гавриила изложение сущности размышлений Карпова, обозначаемых как «синтетизм», носит искусственно мудреный и излишне многословный характер. Стремление произвести эффект имитацией некоего философского жаргона приводит, напротив, к эффекту словесной путаницы и логической темноты. Для действительного понимания этого термина надо непременно ознакомиться с философскими работами самого Карпова, в которых, кроме всего прочего, и толкуется термин «синтетизм». Архимандрит Гавриил этого сделать, конечно, не мог, ибо эти работы Карпова были произведены уже после напечатания его, архимандрита Гавриила, «Истории русской философии» в 1840 году. Основные мысли философии Карпова были сформулированы в трёх его важнейших сочинениях – «Введение в философию», 1840 год; статья «Взгляд на движение философии в мире христианском и на причины различных её направлений», 1856 год; статья «Философский рационализм новейшего времени», 1860 год. «Синтетизм» есть понятие, относящееся к методу философствования. Смысл его, по определению самого Карпова, в том, что необходимо бытие и знание о бытии рассматривать в нераздельном их существовании, т. е. синтетически, а не раздельно, т. е. аналитически, чтобы затем, как это принято в западной философии, выводить одно из другого – выводить знание из бытия, как это делает реализм, или выводить бытие из знания, как это делает идеализм. Аналитическое философствование приводит к абсурдным результатам, что видно на примере философии Канта. Синтетическое же философствование, по своему замыслу, должно привести к получению истинного и полного знания об окружающей человека действительности. Сам термин «синтетизм» заимствован Карповым, вероятнее всего, у немецкого философа Круга (1770–1842).
30
Слово «выспренность» (и соответствующее ему понятие) впервые было употреблено Сидонским в его «Введении в науку философии». Легче всего смысл этого слова передать техническим термином «трансцендентальность», что означает «переход из сферы эмпирически-чувственной в сферу сверхчувственную, метафизическую». Еще проще «выспренность философского знания» понимать как «метафизичность философского знания». Обычно ведь философию и понимают как метафизику.