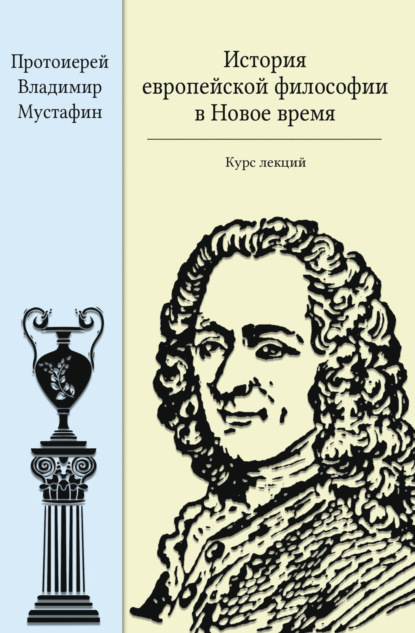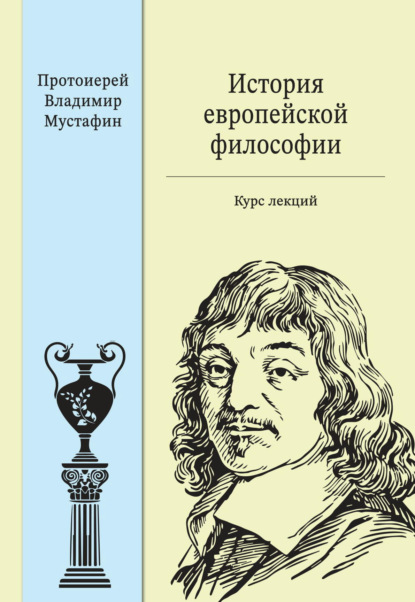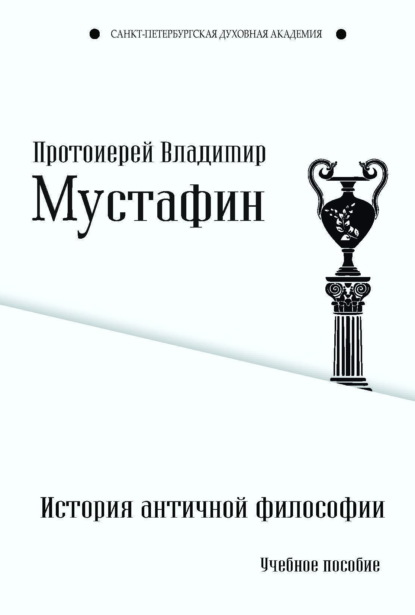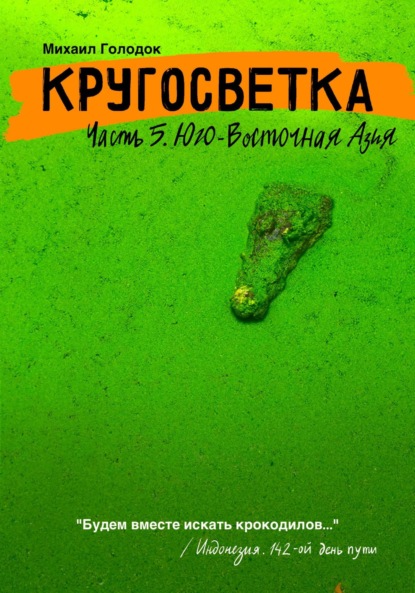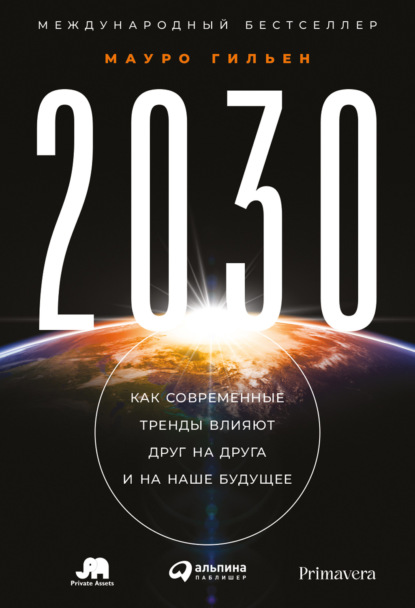Русская философия
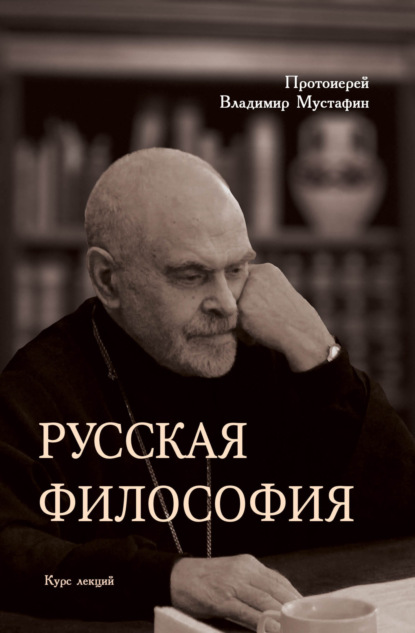
- -
- 100%
- +
31
Ибервег Ф. История новой философии в сжатом очерке = (Grundriss der Geschichte der neuen Philosophie): в приложении «Философия у русских» Я. Колубовского и два указателя / Пер. с 7‑го нем. изд. Я. Колубовский. СПб., 1890.
32
Колубовский Я. Н. Материалы для истории философии в России. 1855–1888 // Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 4. С. 1–32; 1891. Кн. 5. С. 33–44; Кн. 6. С. 45–96.
33
Эта система есть компиляция, в основе которой лежит рационалистическая гносеология Лейбница (но и только, все сложности философии Лейбница исключены) плюс рационалистические положения из Аристотеля, стоиков и схоластиков. В результате получился учебный курс философии, сравнительно легкий для школьного усвоения и для дальнейшего его распространения в общественном сознании. Этой популярности системы Вольфа еще больше поспособствовало то, что она была написана на немецком языке, а не на латинском, как это было принято до этого. Поэтому система Вольфа стала едва ли не основным элементам т. н. немецкого просвещения и уж во всяком случае его символом.
34
Чуйко В. Русская философия // Кирхнер Ф. История философии с древнейшего до настоящего времени = (Geschichte der Philosophie). 2-е изд. СПб., 1902. С. 330.
35
Там же. С. 331.
36
Там же.
37
Автор этой характеристики философии Сковороды – Николай Фёдорович Сумцов (1854–1922), ученый-этнограф, профессор Харьковского университета и одно время декан историко-филологического факультета этого университета, обладатель вообще большого количества различных ученых званий. Автор множества сочинений по своей обширной научной компетенции, в том числе – множества статей в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона.
38
Там же. С. 332.
39
Если славянофильство было результатом прямого воздействия на русские умы критики Шеллингом гносеологического рационализма, то западничество было результатом отрицания этой критики. Славянофилы в лице своих выдающихся теоретиков Киреевского и Хомякова отождествили рациональную философию со всей западной философией и для отвержения её, западной философии, использовали аргументы Шеллинга против рационалистической философии, предельно последовательным выразителем которой в то время был Гегель. Русские же западники в силу своей исходной установки поддерживать любое западное умствование естественно крепко держались позиции противодействия славянофильскому отрицанию философского рационализма, в котором они, западники, так же полагали сущность западной культуры, как это делали и славянофилы.
40
Проще понять этот ход мыслей можно следующим образом. Всякое человеческое знание (именно знание как знание, т. е. теория, а не как какой-то его обывательский заменитель в виде, например, практического навыка в осуществлении какого-либо ремесла) состоит из двух компонентов – 1) эмпирически приобретенных через органы внешних чувств ощущений и восприятий и 2) общих понятий и категорий, обозначаемых словами, при помощи которых эмпирически приобретенные ощущения и восприятия становятся содержанием конкретных понятий и суждений, совокупность которых и есть знание. Ощущения и восприятия – это материал знания, общие понятия и категории – форма знания. Материал знания имеет естественное происхождение, потому что приходит к человеку из естественной (= физической) среды, форма знания имеет сверхъестественное (= метафизическое) происхождение, ибо в естественной среде никаких соответствий общим понятиям и категориям нет. Вот эти то общие понятия и категории, будучи элементами метафизического знания, и есть объект философского исследования. Потому философия и отождествляется с метафизикой.
41
Не касаясь вопроса о соответствии этого изложения хода мыслей Кудрявцева настоящему ходу мыслей Кудрявцева по сформулированной теме, следует обратить внимание на неопределенность ключевых терминов в этом ходе мыслей, которая мешает понять суть дела любому внимательному читателю. Прежде всего, термин «идеализм», противопоставляемый термину «материализм». Если с «материализмом» всё более или менее понятно – он признает только материальную субстанцию в качестве истинной онтологии, а гносеологическая способность познания этой субстанции есть сенсуализм, или внешний опыт, т. е. органы внешних чувств. Но понять, что такое «идеализм» в данном ходе мыслей толком невозможно. Ведь по контексту ясно, что под «идеализмом» здесь подразумевается и может подразумеваться только «спиритуализм». Но почему-то «спиритуализм» называется «идеализмом». А это переименование не может не сбивать с толку. Ведь «идеализм» есть термин гносеологический, а «спиритуализм» есть термин онтологический. Мешать онтологию с гносеологией значит самым безнадежным образом затемнять рассуждение. Если кто-то скажет, что в данном случае подразумевается фатальная де предрасположенность определенного онтологического учения к определенной гносеологической позиции, имея в виду предрасположенность материализма к внешнему опыту (сенсуализму), а спиритуализма к тому, что в данном случае называется внутренним опытом (идеализмом), то и это размышление с одной стороны просто не соответствует фактам истории философии, а с другой стороны чрезвычайно темно и потому непонятно. Несоответствие фактам истории философии состоит, например, в том, что создатель античного материализма Демокрит в своих гносеологических взглядах вовсе не был исключительным приверженцем сенсуализма, а исходил именно из признания разума как источника истинного знания. Да и действительно, как можно было прийти к признанию атомов в качестве единственной онтологической реальности и при этом считать органы внешних чувств единственным источником знания. Ни одному органу внешних чувств невозможно зафиксировать наличие атомов. Для Демокрита атомы были метафизической реальностью, утверждаемой именно разумом. Онтологический материалист Демокрит был принципиальным приверженцем гносеологического рационализма, т. е. гносеологическим идеалистом (как это будет разъяснено ниже). Темнота же утверждения о предрасположенности спиритуализма к некоему внутреннему опыту состоит в том, что непонятен гносеологический статус этого внутреннего опыта. Что это такое? Как будто подразумевается склонность познающего индивидуального духа выдавать свои произвольные фантазии за реальное знание. Но это несерьезно. В истории умственной жизни человечества были, конечно, попытки выдавать индивидуальные сновидения, иллюзии и галлюцинации за источник некоего знания, претендующего на публичное значение, но эти попытки никакой гносеологической ценности не имеют. Истинное знание, и об этом никто не может спорить, должно быть публично обосновано, или доказано, а субъективные переживания индивидуального духа такой обоснованности в принципе иметь не могут. Если же все-таки в истории умственной жизни человечества были случаи признания индивидуальных душевно-духовных переживаний какой-либо (пусть и выдающейся) личности в качестве истинного знания, то такое признание происходило на основании психологической «веры» в истинность этих индивидуальных переживаний. Но «вера» не есть категория гносеологическая, «вера» есть категория исключительно психологическая. Тогда что же следует понимать под словосочетанием «внутренний опыт»? Осмысленное понимание может быть только одно – следует понимать разум как источник истинного знания, то есть признать гносеологический рационализм. И тогда в какой-то степени оправдывается название гносеологического рационализма «идеализмом», ибо под «идеализмом», если строго относиться к философскому словоупотреблению, естественнее всего понимать гносеологическое учение Платона об идеях, которое есть ничто иное как единственный и общепризнанный образец гносеологического рационализма. Но есть ещё одно толкование смысла термина «идеализм», имеющее специально гносеологическое значение, но которое именно из-за своего специального характера труднее подвергается популяризации. Под гносеологическим идеализмом понимается прежде всего, конечно, гносеологический рационализм. Но дело в том, что гносеологический рационализм имеет два варианта – 1) реалистический (= рационалистический реализм, или реалистический рационализм) и 2) идеалистический (= рационалистический идеализм, или идеалистический рационализм). Разница между этими вариантами гносеологического рационализма та, что реалистический рационализм утверждает объективно-реальный характер знания, получаемого человеком через разум, а идеалистический рационализм утверждает субъективный (= идеалистический) характер этого знания. Примером реалистического рационализма является всё то же учение Платона об идеях. А примером идеалистического рационализма является «концептуализм» Пьера Абеляра, прототипом которого, кстати сказать, была модификация Аристотелем учения Платона об идеях. Так вот, если под «идеализмом» подразумевать именно идеалистический рационализм, то такое словоупотребление вполне оправдано. Но совершенно не оправдано отождествление исключительно только идеалистического рационализма с гносеологическим рационализмом вообще. А такое отождествление в рассматриваемом рассуждении Кудрявцева как будто бы можно зафиксировать.
42
Этот «трансцендентальный монизм» Кудрявцева по своей схеме есть аналог «трансцендентального идеализма» Шеллинга.
43
Бросается в глаза логическая несуразность такого типа определений, когда не ясное и потому не приспособленное для познавательного усвоения умственное положение определяется (т. е. проясняется) посредством ещё более неясного умственного положения. Да, «прекрасное» нуждается в определении, ибо настоятельная необходимость такого определения обусловливается необходимостью нахождения критерия «прекрасного», без которого любому индивиду невозможно толком разобраться в тех впечатлениях, которые поступают в его душу от окружающей его внешней реальности, где, в душе, «красивое» и «безобразное» в многоразличных степенях и неисчислимых комбинациях находятся в тесном переплетении и неразличимом месиве. И, кстати обратить внимание на то, что такое необходимое определение «прекрасного» все-таки в истории умственной жизни человечества почему-то в надлежащей степени не получается. Почти всегда повторяются в качестве признаков определения «красивого» одни и те же слова – «прекрасное», «красивое», «изящное», – которые просто повторяют название нуждающегося в определении понятия «красивое», повторяют название понятия, а не определяют понятие. Что же касается определения понятия «прекрасного» посредством понятия «жизнь», то несуразность такого определения очевидна, ибо понятие «жизнь» несоизмеримо сложнее по своему содержанию понятия «прекрасное». Оно само, понятие «жизнь», нуждается в определении, которое невозможно осуществить из-за его, этого понятия, сложности. Поэтому попытка определить неопределенным понятием «жизнь» понятие «прекрасное» не может быть логически осуществима.
44
В этом объяснении происхождения искусства надлежащей ясности всетаки не достает. Если обыватель, никогда не видевший моря в оригинале, получает определенное эстетическое удовлетворение, глядя на море в каком-либо его искусственном воспроизведении, это сравнительно легко понять. Труднее понять причину, которая подвигает самого живописца на искусственное воспроизведение естественного морского пейзажа. Зачем ему искусственная копия естественного оригинала, который у него перед глазами, копия, которая по качеству никогда не может сравниться с оригиналом?
45
Потому что именно только словами можно хоть в какой-то степени выразить определенную мысль.
46
И даже на всю естественную науку. Правда, относительно науки никаких подробностей её объяснительного характера Чернышевский не приводит. Упоминает только об аксиомах, которые формулируются в различных конкретных естественных науках. Аксиомы действительно имеют исключительно объяснительный характер и, вместе с тем, являются исключительно искусственными изобретениями человеческого ума. В естественной среде наблюсти при помощи органов внешних чувств аксиомы и затем зафиксировать их в качестве факта словами, конечно, невозможно.
47
Даже не соглашаясь со всей этой эстетической теорией Чернышевского, невозможно усмотреть в ней того противоречия, на которое указал Чуйко. Почему осуществление второй функции искусства, толкования (осмысления) воспроизведенного фрагмента природы, может быть произведено только после отказа от первой функции, от самого этого воспроизведения? Аналогия между искусством и историей, предложенная Чернышевским для облегчения понимания соотношения между этими функциями, вполне дельная. В истории ведь точно так все и происходит: исторические факты находятся в различных исторических источниках, из которых историк-ученый эти факты извлекает и затем каким-то образом толкует. Почему же в искусстве этого не может быть? Никакого противоречия между этими двумя операциями, искусственного воспроизводства какого-то фрагмента естественной реальности и рационального толкования этого фрагмента, нет. Другое дело, что сама эта мысль Чернышевского о толковании как о специальной функции искусства, которая де присуща всем видам искусства, не совсем ясна. Если под искусством иметь в виду только словесное искусство, то тогда в какой-то мере (хотя и не в полной) можно признать функцию толкования как на самом деле осуществляемую на том основании, что слово и мысль – это практически одно и то же, поэтому говорить или писать значит то же самое, что и мыслить-осмыслять-толковать. Но, вот, музыка. Какое в музыке может быть толкование? Кто-то скажет, что в вокальной музыке есть слова, и вот они-то, эти слова, и являются результатом и показателем этого толкования. Но эта натянутая аргументация в принципе не приложима к инструментальной музыке. Инструменты уж точно не могут толковать сами себя. Кстати, относительно музыки не работает и главное положение всей эстетической теории Чернышевского – что искусство есть воспроизведение определенного фрагмента природы. В природе нет инструментальной музыки, поэтому и воспроизводить нечего. Но музыка как искусство есть. Следовательно, не из природы она извлечена.