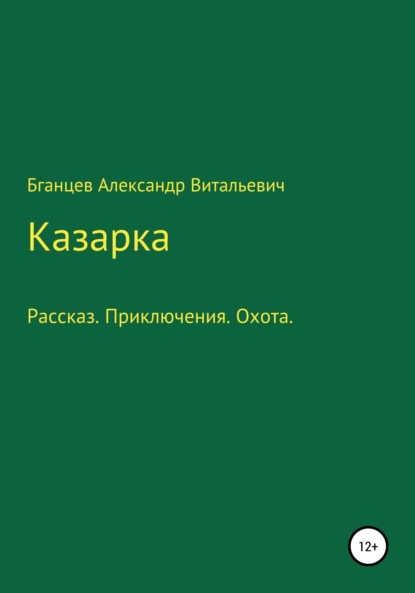- -
- 100%
- +
Бар был полон. Не шумно, но людно. Мужики с натруженными руками, пара-тройка женщин. Воздух был густым от запаха пива, жареной картошки и разговоров. Марк заказал виски и устроился в углу, стараясь быть незаметным.
И тогда он начал слышать обрывки. Фразы, вплетённые в общую канту, как нити другого цвета.
– …а я вчера Час использовал, чтобы к Бекке сходить, – говорил коренастый мужчина у стойки своему приятелю. – Никто не видел. Идеальное алиби, чёрт возьми.
Его друг хрипло рассмеялся: “Говорю же, лучшее время. Жена ни о чём не спросит. Она в это время свою свекровь навещает. Удобно”.
В другом углу женщина средних лет жаловалась подруге: “…а мой вообще в гараже запирается. Говорит, медитирует. А я знаю, что он там свой старый мотоцикл чинит. Но хоть час тишины…”
Марк сидел, застыв со своим виски. Его охватило чувство, более жуткое, чем вчерашний ужас. Это было признание. Негласное, но всеобщее. Все знали. Все. И все пользовались этим. Они превратили чудовищную аномалию в удобный инструмент, в социальный договор. Говорить об этом прямо было дурным тоном, нарушением правил игры. Это было табу, крепче любого закона.
Он допил свой виски и вышел из бара в тёплый вечерний воздух. Улицы были снова полны жизни. Дети катались на велосипедах. Взрослые болтали на крыльцах.
Но теперь Марк видел то, что скрывалось за этой идиллией. Он видел невидимые часы на башне, отмеряющие время до следующего Часа. Он видел лёгкую усталость в глазах взрослых и пустоту – в глазах детей. Он понимал, что самое страшное в Слипи-Холлоу было не то, что происходило в три часа дня. Самое страшное было то, что происходило в четыре. Люди просыпались, отряхивались и делали вид, что всё в порядке.
Когда Марк вышел из бара, шериф Билл Рэнсом наблюдал за ним из-за руля своего внедорожника, припаркованного в тени за углом. Он видел, как Фэйвелл пошатывается, вдыхая вечерний воздух.
– Напуганный, – констатировал про себя Рэнсом. – Ещё не сломленный, но уже на грани.
Он завёл машину и медленно покатил по пустынным улицам к своему дому. Не к тому, современному, с бассейном, где жила его бывшая жена, а к старому бунгало на отшибе, доставшемуся ему от отца. Дому, в котором он вырос.
Войдя внутрь, он щёлкнул выключателем. Свет люстры-паука озарил гостиную, застывшую во времени. Пыльные трофеи за плечами чучела оленя на стене. Фотография на камине: он, молодой и подтянутый, его жена Хлоя, ещё улыбающаяся, и их сын Майкл, лет трёх, с копной светлых волос.
Рэнсом взял рамку в руки. Палец в грубой перчатке медленно провёл по стеклу над лицом мальчика. Майкл был одним из первых. Не из тех, кто привык к “Часу” с детства, а из тех, на ком система обкатывалась. 1994 год. Ему было шесть, когда “Тихий час” из случайных инцидентов превратился в рутину.
Рэнсом помнил тот ужас. Помнил, как его крепкий, живой мальчик замирал на пороге дома, неся из школы не рисунок, а оцепенение. Помнил свои крики, тряску, звонки во все инстанции. А потом – визит старого Ванберга. Не с угрозами, а с… пониманием. С чашкой кофе и рациональными, чудовищными доводами.
– Билл, – говорил Ванберг, глядя на плачущую Хлою, – посмотри на неё. Она на грани. А твой Майкл… он адаптируется. Дети гибкие. А мы, взрослые… нам нужна эта передышка. Чтобы не сойти с ума. Чтобы сохранить семьи.
И он видел, как в глазах Хлои, измученной годами его вечной работы и странными приступами сына, загорается слабая, отчаянная надежда. Час тишины. Час, когда не нужно бояться за ребёнка, потому что он в безопасности. Час, когда можно просто молчать.
Они согласились. Не город – они. Его семья. И “Тихий час” стал нормой. Майкл вырос. Вырос странным, замкнутым, с пустотой в глазах. В восемнадцать он уехал в Портленд и разорвал все контакты. В последнем письме он написал: “Я не могу дышать в этом месте, пап. Воздух здесь лжёт”.
Хлоя ушла через год после отъезда сына. Не выдержала тишины, которая должна была их спасти.
Рэнсом поставил рамку на место. Он остался. Остался хранителем кошмара, который сжёг его собственную семью. Он стал шерифом не чтобы защищать людей, а чтобы защищать систему. Чтобы гарантировать, что никто не нарушит хрупкое, купленное такой страшной ценой спокойствие. Чтобы никто не пришёл и не доказал ему, что вся его жизнь – это сделка с дьяволом, которая не стоила и ломаного гроша.
Глава 5: Доктор Рид
Прошла неделя и мысль о том, чтобы вести Люси к местному педиатру, вселяла в Марка суеверный ужас. Он почти ожидал увидеть в кабинете ещё одного адепта культа “Тихого часа” – улыбчивого и пустого, как миссис Кармайкл или сосед Джерри, который прописал бы ему успокоительное и посоветовал “расслабиться”.
Кабинет доктора Рид располагался в уютном, ничем не примечательном коттедже на окраине Мейн-стрит. Вывеска была скромной: “Элис Рид, педиатрия”. Никаких намёков на эзотерику или сверхъестественное. В зале ожидания стояли стеллажи, забитые не только старыми журналами, но и научными трудами по психологии и неврологии. Сама доктор Рид оказалась женщиной лет сорока, с умными, внимательными глазами за очками в тонкой металлической оправе и строгой коричневой гривой, собранной в небрежный пучок. Её рукопожатие было твёрдым и сухим.
– Мистер Фэйвелл, Люси, проходите, – её голос был ровным, лишённым слащавости, которую Марк уже успел возненавидеть в этом городке.
Пока она осматривала Люси, проверяя рефлексы, заглядывая в горло и уши, Марк молча наблюдал. Доктор Рид была профессиональна, даже немного отстранённа, но в её движениях не было и тени того автоматизма, что отличало других жителей Слипи-Холлоу. Она казалась… присутствующей. Каждое её действие было обдуманным.
– Всё в порядке, Люси, ты совершенно здорова, – заключила она, и Люси улыбнулась, почувствовав себя увереннее. – Можешь подождать в коридоре, там есть книжки с картинками про динозавров.
Когда дверь закрылась за дочерью, в кабинете повисла напряжённая пауза. Доктор Рид устроилась за своим столом, сложив руки перед собой.
– Ну что ж, мистер Фэйвелл. Как ваша дочь перенесла вчерашний “Тихий час”?
Марк почувствовал, как у него перехватило дыхание. Она произнесла это словосочетание без намёка на смущение или ритуальный трепет. Как обычный медицинский термин.
– Вы… вы знаете, – выдавил он.
– Я педиатр в этом городке уже двенадцать лет, – сухо заметила она. – Было бы странно, если бы я не знала.
– И вы считаете это нормальным? – в голосе Марка прозвучал вызов.
Элис Рид внимательно посмотрела на него через очки. В её взгляде не было ни раздражения, ни осуждения. Был чистый, незамутнённый интерес.
– Я считаю это фактом, мистер Фэйвелл. Как ураган или землетрясение. Нечто, что происходит регулярно, вне зависимости от того, считаем мы это нормальным или нет. Вы первый новый человек в городе за последние пять лет, который задаёт не вопрос “как этим пользоваться?”, а вопрос “что это такое?”.
Марк почувствовал, как камень свалился с его души. Он не был сумасшедшим.
– Они не дышат, доктор, – тихо сказал он. – Я проверял. Я не чувствовал дыхания.
– Дыхание есть. Одно-два поверхностных вздоха в минуту. Сердцебиение замедляется до трёх-пяти ударов. Метаболизм падает до уровня, близкого к анабиозу у некоторых видов животных. – Она говорила чётко, как на лекции. – Но самое интересное не это.
Она развернула монитор своего компьютера. На экране были разноцветные графики. Пока изображение загружалось, её взгляд на секунду затуманился, упёршись в мерцающие линии. Эти графики были для неё не просто данными. Они были надгробиями. Надгробиями на могиле её прежней жизни, той, что закончилась двенадцать лет назад не в Слипи-Холлоу, а в Портленде, в палате детской реанимации.
Тогда линии на мониторе тоже были почти плоскими.
Сердце её маленького Дэниела билось с частотой сорок ударов в минуту, и с каждым часом это число становилось всё меньше, как песок, утекающий сквозь пальцы. Энцефалограф вырисовывал не детские дельта-волны сна, а длинные, ухабистые равнины, прерываемые редкими, острыми пиками – безмолвными криками угасающего сознания. “Кома”, – говорили врачи, разводя руками. “Необъяснимая”. Это слово – “необъяснимая” – стало молотом, который медленно, со звонким стуком, забивал гвозди в крышку её здравомыслия.
Она сидела у кровати сына, держа его крошечную, восковую ручку в своей, и чувствовала, как её собственная профессия – вся её наука, все её дипломы – превращается в прах. Она могла диагностировать коклюш, ветрянку, аппендицит с закрытыми глазами. Но перед этим тихим, ползучим угасанием она была бессильна, как любая другая мать, рыдающая в больничном коридоре. Муж, Майкл, не выдержал. Он не сбежал, нет. Он просто сломался. Сидел в уголке и смотрел в стену, и в его глазах была та самая пустота, что и в глазах сына. А потом Дэниел перестал дышать. Не в три часа дня, а в три часа ночи. И линии на мониторе окончательно вытянулись в ровные, безжизненные прямые.
– А это – ЭЭГ ребёнка во время “Тихого часа”. Вашей дочери, если точнее. Я сняла её вчера, с её согласия, разумеется. – Марк удивлённо поднял бровь, и доктор Рид чуть улыбнулась. – У меня есть портативное оборудование. Для наблюдений.
После похорон её мир рассыпался. Майкл ушёл, не в силах выносить тишину в их доме – тишину, которая раньше была наполнена смехом Дэниела. Её карьера в престижной клинике Портленда зашла в тупик. Она не могла больше смотреть на детей, не видя в их глазах тень того самого, необъяснимого угасания. Она сбежала. Сбежала в самое тихое, самое забытое Богом место, какое смогла найти на карте. Слипи-Холлоу. Место, где можно было спрятаться от воспоминаний. Ирония судьбы оказалась чудовищной, как удар ножа в уже зарубцевавшуюся рану.
Первый “Тихий час” она наблюдала через месяц после переезда. Девочка на приёме, Синди М., застыла прямо в кресле. Не как её Дэниел – медленно, мучительно. А резко. Как по щелчку. И так же резко очнулась ровно через час, ничего не помня. У Элис Рид, учёной-прагматика, было две реакции. Первая – панический, животный ужас, от которого кровь стыла в жилах. Вторая – холодный, хирургический интерес. Потому что это было не “необъяснимо”. Это было регулярно. Это был феномен. А раз это был феномен, его можно было изучить. Измерить. Понять.
Её горе, её личная трагедия нашла себе новую, уродливую форму. Она больше не была бессильной матерью, оплакивающей сына. Она стала исследователем, одержимым поиском ответа. Если она не смогла спасти Дэниела, может быть, она сможет спасти этих детей? Или, на худой конец, она сможет узнать, что с ними происходит. Знание стало её единственным якорем, её формой оплакивания. Каждый застывший ребёнок был для неё эхом Дэниела. Каждый “Тихий час” – возможностью отыграть ту ночь в Портленде заново, но на этот раз с данными, с приборами, с контролем.
– Это что, кома? – спросил Марк, вглядываясь в почти мёртвую линию.
– Нет. При коме активность другая. Это… – она сделала паузу, подбирая слова, – …это не сон. И не кома. Мозг не спит. Он работает на частоте, которую наша аппаратура с трудом регистрирует. Видите эти микровсплески? Их амплитуда ничтожна, но ритм… Ритм невероятно сложный и стабильный. Как будто всё сознание, вся психическая энергия сжимается в точку и… перенаправляется.
“Перенаправляется”. Она сама придумала этот термин. Он был удобен. Он скрывал за собой невысказанную надежду. А что, если сознание Дэниела не угасло, а было куда-то “перенаправлено”? Что, если смерть – это не конец, а всего лишь… смена канала? Эта мысль была еретической, безумной, но она позволяла ей жить. И она же делала её пленницей Слипи-Холлоу. Она не могла уехать. Потому что здесь, в этом проклятом городке, она была ближе всего к разгадке величайшей тайны – той, что забрала у неё сына.
– Куда? – прошептал Марк, и по его спине пробежали мурашки.
Доктор Рид сняла очки и устало протёрла переносицу. В этот момент она выглядела не грозной учёной, а просто уставшей женщиной, на чьи плечи свалилась тяжесть, неподъёмная для одного человека.
– Не знаю. Это аномалия, мистер Фэйвелл. Медицинский феномен, не имеющий аналогов. Я веду наблюдения. Собираю данные. Но в одиночку… – она пожала плечами. – Местные власти не заинтересованы в расследовании. Родители… вы сами видели. Они предпочли договориться с этим.
– Они продали своих детей ради часа тишины, – с горечью сказал Марк.
– Не будьте так суровы, – покачала головой доктор Рид. – Люди находят способы жить с тем, что не могут изменить. Даже с самым чудовищным. Это называется выживание. Но вы… вы, кажется, не из тех, кто готов смириться.
Она смотрела на него с новым, оценивающим интересом.
– Что мы можем сделать? – спросил Марк. Впервые за эту неделю он почувствовал не панику, а целеустремлённость.
– Пока? Наблюдать. Фиксировать. И ждать. Аномалии имеют свойство развиваться. Или… проявлять новые свойства. – В её голосе прозвучала твёрдая, научная решимость. – У нас теперь есть кое-что ценное, мистер Фэйвелл.
– Что?
– Контрольный субъект. Взрослый, находящийся в полном сознании во время события. Вы. Ваши наблюдения могут быть бесценны.
Марк кивнул, глядя на загадочный график на экране. Эта почти прямая линия была страшнее любого кошмара. Это была карта terra incognita, территории абсолютной неизвестности, куда каждый день уходила его дочь. И теперь у него появился проводник.
Он вышел из кабинета, держа за руку Люси. Солнце по-прежнему светило, но теперь в его свете Марк видел не ложную идиллию, а поле битвы. И он только что нашёл своего первого союзника.
Глава 6: Игра теней
На следующий день Марк чувствовал себя солдатом, ожидающим атаки. Он нервно поглядывал на часы, и каждый раз, когда стрелка всё ближе приближалась к трём часам дня, его ладони становились влажными. Сегодня он не собирался прятаться или делать вид, что ничего не происходит. Сегодня он будет наблюдать.
Он забрал Люси из школы за десять минут до Часа. Дорога домой прошла в напряжённом молчании. Люси что-то бормотала себе под нос, разыгрывая сценку с игрушками, а Марк ловил себя на том, что смотрит на неё не как отец, а как исследователь на подопытное существо. Это чувство было отвратительным, но от него никуда было не деться.
– Пап, а мы можем мороженое после ужина? – спросила она, уже переступая порог дома.
– Конечно, лучик, – автоматически ответил он, его взгляд прилип к большим настенным часам в гостиной.
Без двух три.
Он усадил Люси на диван прямо напротив большого пустого участка стены, освещённого косыми лучами послеобеденного солнца.
– Посиди тут минутку, хорошо? Папе нужно кое-что проверить.
Она послушно кивнула, уткнувшись в планшет. Марк отступил на несколько шагов, чтобы видеть и её, и её тень, отброшенную на светлые обои. Сердце колотилось где-то в горле. Он чувствовал себя идиотом и пророком одновременно.
Ровно в три часа мир снова замер. Тонкий, леденящий душу звонок прозвучал где-то на краю слуха. Люси застыла, палец замер в сантиметре от экрана планшета. Её дыхание остановилось. Глаза остекленели.
Тишина обрушилась, густая и тяжёлая, как вода в затопленной шахте. Марк заставил себя дышать медленно и глубже, борясь с паникой. Он пристально смотрел на тень.
Первые несколько минут ничего не происходило. Тень была просто тенью – плоским, статичным силуэтом его дочери. Он уже начал думать, что ему всё померещилось, что его мозг, отравленный страхом, начинает порождать галлюцинации. Он потёр глаза, чувствуя, как потаённая надежда на безумие смешивается с разочарованием.
И тогда он это увидел.
Ему показалось, что тень от руки Люси, той, что лежала на коленях, шевельнулась. Небольшое, едва заметное подрагивание кончиков пальцев. Марк замер, не веря своим глазам. "Параллакс, – тут же нашёл объяснение его рациональный ум, – солнце сместилось, и тень изменилась. Или ты выпил в обед тот самый виски".
Он подошёл ближе, почти не дыша. Тень была неподвижна. Он уже готов был отступить, как вдруг увидел это снова. Тень головы на стене медленно, очень медленно повернулась. Не физическая голова Люси – та оставалась застывшей, уставившейся в пустоту. Её теневая проекция повернулась и посмотрела прямо на него.
По спине Марка побежал ледяной пот. Это было невозможно. Противоречило всем законам физики. Он зажмурился, снова открыл. Тень всё так же смотрела на него. И уголки её губ поползли вверх, образуя широкую, медленную, неестественную улыбку. Ухмылку, которой на лице его дочери не было и в помине. Это была улыбка чужака. Улыбка, полная тихого, изучающего презрения.
– Нет, – прошептал Марк, отступая. Его пятка наткнулась на ножку стула, и он едва не упал.
Тень не шелохнулась. Она просто смотрела на него и улыбалась этой жуткой, застывшей улыбкой. Она была живой. Осознающей. И она знала, что он её видит.
Марк сделал рывок вперёд, заслонив своим телом Люси от источника света. Тень исчезла, растворившись в его собственной, более крупной тени. Он стоял, тяжело дыша, спиной к дочери, боясь обернуться. Через несколько секунд он медленно, очень медленно отступил в сторону.
Солнце снова упало на Люси. Тень на стене была абсолютно нормальной. Неподвижный, правильный силуэт спящей девочки. Никакой улыбки. Никакого поворота головы.
Он просидел так весь час, не сводя с тени глаз. Больше ничего не произошло. Но он уже знал правду. Доктор Рид была права, но лишь отчасти. Сознание детей не просто “перенаправлялось”. Оно уступало место чему-то другому. Чему-то, что могло наблюдать. Чему-то, что жило в тенях.
Когда в четыре часа Люси вздрогнула и сделала глубокий, сдавленный вдох, Марк не бросился к ней. Он продолжал смотреть на стену, где несколько минут назад гримасничала тень. Теперь там был лишь обычный солнечный зайчик.
– Пап? Я что, уснула? – голос Люси был хриплым от долгой неподвижности.
Марк обернулся. Он смотрел на её лицо – живое, родное, испуганное. Он видел в её глазах лишь лёгкую дезориентацию. Никакого намёка на тёмное знание, на ту ухмылку.
– Да, детка, – его собственный голос прозвучал чужим и далёким. – Ты уснула.
Он подошёл, обнял её, прижал к себе. Её тело было тёплым и реальным. Но объятие не согрело его. Лёд, образовавшийся у него в груди, не таял. Он понял, что самое страшное – это не сам “Тихий час”. Самое страшное – это осознание, что в твоём доме, рядом с твоим ребёнком, каждый день на час поселяется нечто. Нечто, что смотрит на тебя из мира теней. И улыбается.
Глава 7: Садовник
Тишина была её рабочим кабинетом.
Ровно в три часа, когда тонкий, хрустальный звонок растворялся в воздухе, не столько прерывая звуки, сколько выключая их, как поворотом рубильника, миссис Кармайкл стояла у окна своего класса. Она не просто наблюдала – она совершала обход. Обход своих владений.
За стеклом, на игровой площадке, жизнь замирала с той же плавной, неумолимой точностью, с какой песок пересыпается в песочных часах. Догонялки теряли азарт, мяч, подброшенный к небу, зависал на мгновение, словно не решаясь подчиниться гравитации, и падал с одним-единственным, приглушённым стуком. Смех обрывался не резко, а таял, как пар на холодном стекле. И вот они уже стояли – её дети. Десятки маленьких статуй, застывших в самых немыслимых позах: с поднятой для прыжка ногой, с протянутой для передачи рукой, с открытым в беззвучном крике ртом.
Элеонор Кармайкл не испытывала ужаса. Она испытывала глубокое, почти мистическое удовлетворение садовника, наблюдающего, как под его руками всё приходит в идеальный, предсказуемый порядок.
Она отвернулась от окна. Её кабинет пахнет мелом, яблоками и чем-то неуловимо старым, бумажным – запахом знаний, которые давно стали не теорией, а плотью и кровью. Она прошлась между партами, её пальцы с лёгкостью балерины коснулись столешниц. На одной из них лежал рисунок новенькой, Люси Фэйвелл. Солнышко, домик, кривоватая фигурка с мамой и папой. Милая, наивная работа. Элеонор улыбнулась. Скоро и эти детские каракули уступят место другим, более сложным узорам. Она с нетерпением ждала этого момента. В этих узорах была своя, странная красота.
Она подошла к шкафу и вынула оттуда не журнал с планами уроков, а толстый, кожаный альбом с пожелтевшими страницами. Это был её личный дневник наблюдений. Он начинался тридцать лет назад, с дрожащих записей молодой учительницы, столкнувшейся с чем-то, что не лезло ни в какие рамки. “2 октября. Синди М. заснула на ходу. Разбудить не удалось. Длительность – ровно час. Врачи разводят руками”.
Страницы со временем менялись. Панические строчки сменились попытками анализа, а затем – спокойной, методичной фиксацией фактов. Она не была учёным, как доктор Рид, с её холодными приборами и подозрительным блеском в глазах. Элеонор была практиком. Она видела, как дети меняются. Да, сначала был шок. Но потом… потом они становились спокойнее. Усидчивее. Они лучше усваивали материал, их не отвлекали пустяки. Они будто избавлялись от всего лишнего, наносного, что мешало чистому процессу познания.
Молодой Ванберг, тогда только начинавший свой путь, нашёл для этого явления нужные слова. “Защитная гибернация”, “естественный отклик на геомагнитные аномалии холмов”, “дар Слипи-Холлоу”. Он говорил не как безумец, а как инженер, объясняющий работу сложного, но эффективного механизма. И она поверила. Не из страха, а из профессионального голода. Ей, как и всем, предложили роль в этом великом, пугающем спектакле. И она её приняла. Не роль тюремщика, как мог бы подумать тот паникёр Фэйвелл. А роль садовника.
Она открыла альбом на свежей странице. Сегодняшний “Час” проходил особенно гладко. Никаких сбоев. Она сделала пометку изящным, каллиграфическим почерком: “Синхронизация на 98%, по субъективным ощущениям. Атмосферное давление в норме”. Она собирала эти данные годами, ища закономерности. Иногда ей казалось, что она почти улавливает ритм, скрытый за всем этим, – медленный, величественный, как дыхание спящего гиганта.
Её взгляд упал на стену, где висели детские фотографии. Улыбающиеся лица. Но её глаза искали не улыбки. Они искали взгляд. И находили его – чуть отстранённый, чуть более глубокий, чем положено ребёнку. Взгляд существ, побывавших за гранью и вернувшихся с тихим знанием, которое они не могли выразить словами, но которое проявлялось в этих удивительных геометрических рисунках.
Она слышала, как некоторые родители шептались за её спиной. Называли её “странной”. Они не понимали. Они пользовались плодами её труда – часами спокойствия, послушными детьми, – но боялись заглянуть в теплицу, где эти плоды выращивались. Они хотели розу, но не желали видеть корни, уходящие в тёмную, удобренную чем-то невыразимым почву.
Когда до конца “Часа” оставалось пять минут, она закрыла альбом и снова подошла к окну. Застывшие фигуры на площадке освещались косыми лучами солнца. В этой неподвижности была своя, леденящая душу красота. Совершенный покой. Абсолютная предсказуемость.
Прогремел второй звонок – резкий, живой, возвращающий мир в его хаотичное, шумное состояние. Дети на площадке вздрогнули, как марионетки, у которых дёрнули за ниточки. Зазвучали голоса, смех, крики. Но для миссис Кармайкл это уже был не хаос, а просто другая фаза цикла. Шумная, беспокойная, но необходимая.
Она поправила платье и вышла из кабинета, чтобы встретить своих учеников. На её лице снова расцвела та самая, тёплая, как яблочный пирог, улыбка. Она была садовником, возвращающимся к своим цветам после короткой, но важной паузы. Она знала, что некоторые из них сегодня принесут ей новые, удивительные узоры. И она с нетерпением ждала этого.
В глубине души, в том месте, куда она заглядывала всё реже и реже, жил крошечный, почти задавленный вопрос: а что, если тот, кто дышит под холмами, однажды откроет глаза? Но она тут же гнала эту мысль прочь. Садовник не должен бояться земли, в которой растут его цветы. Он должен ухаживать за ними. Даже если эта земля иногда шевелится во сне.
Глава 8: Первая запись
После “улыбки тени” мир для Марка раскололся надвое. Была дневная реальность – с солнцем, запахом травы, голосом Люси и необходимостью делать вид, что всё в порядке. А была ночная – полная леденящего ужаса и образов, въевшихся в сетчатку глаз, как ожог. Он почти не спал, ворочаясь на мокрой от пота простыне, и каждую ночь на него смотрела та самая ухмылка из мира теней.
Он не сказал ни слова доктору Рид. Не позвонил Сьюзен. Как можно описать такое? “Знаешь, дорогая, тень нашей дочери строит мне рожи”? Его бы мгновенно упекли в психушку, а Люси отобрали. Нет, ему нужны были доказательства. Неопровержимые, записанные на плёнку.
Он порылся в коробках и нашёл старую, но добротную цифровую камеру, которую когда-то использовал для съёмки документальных сюжетов. Штатив, карта памяти на 64 гигабайта. Всё, что нужно, чтобы поймать призрака.