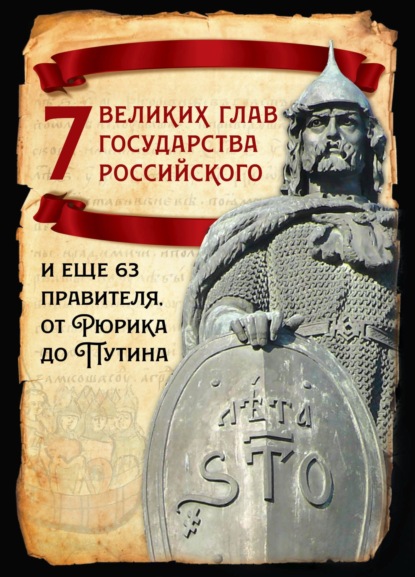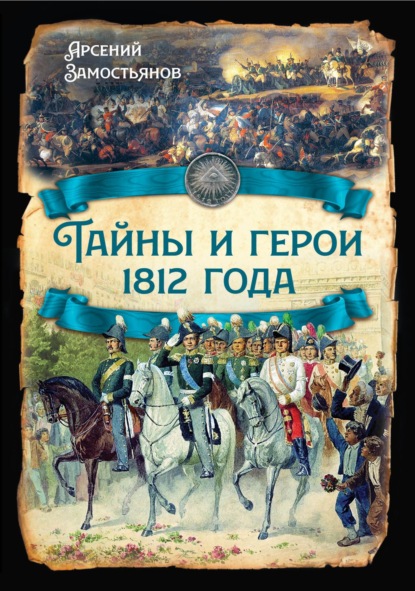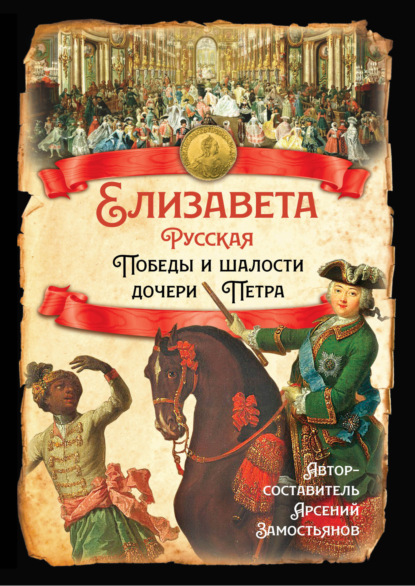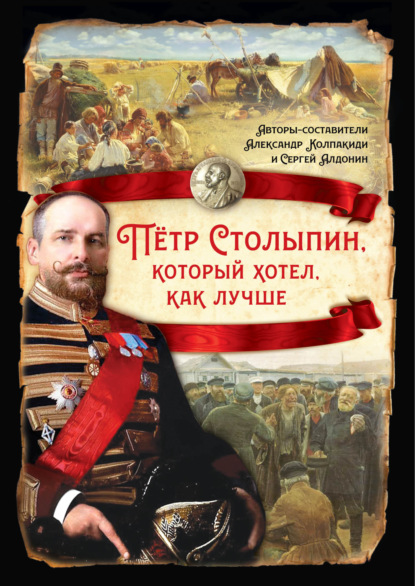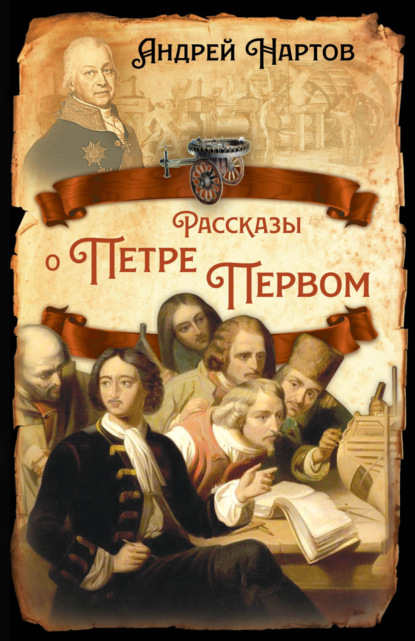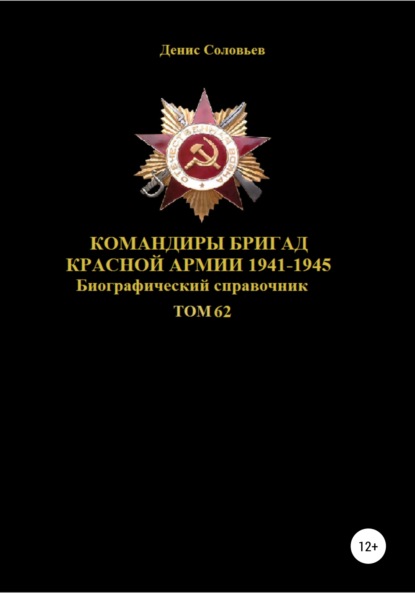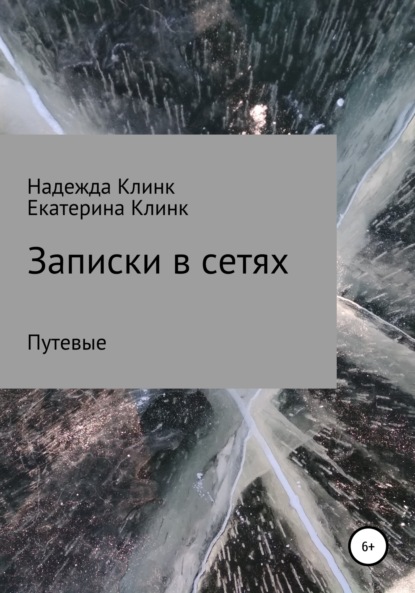Опричнина Ивана Грозного. Что это было?
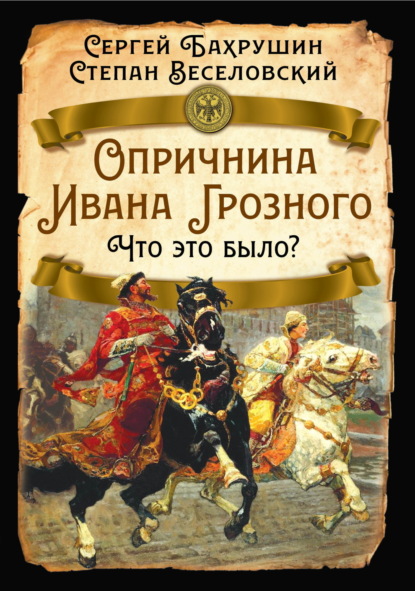
- -
- 100%
- +
Царь Иван отлично понимал, на какие слои московского населения он мог опереться. Он прямо говорит в письме к своему любимцу – опричнику Ваське Грязному: «Что по грехам моим учинилось (а нам как то утаить?), что отца нашего и наши бояре нам учали изменять, и мы вас, страдников (мужиков), приближали, хотячи от вас службы и правды». В ответ Грязной писал: «Не твоя б государьская милость, и я бы что за человек? Ты, государь, как бог, и малого и великого делаешь!»
Поддержку своим начинаниям встретил царь и в посадских людях, заинтересованных в усилении централизации, которая гарантировала им и охрану от произвола «сильных» (т. е. феодальной знати), и широкие перспективы развития их торгов и промыслов.
Видя опору своей власти в дворянстве и купечестве, Иван IV обратился к их представителям в 1566 г., когда из Литвы пришли мирные предложения. Король Сигизмунд II Август готов был отказаться в пользу Москвы от всех занятых русскими городов, включая Полоцк, но не соглашался уступить всю Прибалтику. По этому поводу был созван Земский собор, на котором наряду с Боярской думой и Освященным собором присутствовали дворяне различных «статей», в том числе помещики уездов, соседних с театром военных действий, и представители крупного купечества – гости и жившие в Москве смольняне.
Иван IV не хотел мириться на условиях, предлагаемых Литвой: ему нужна была вся Ливония. Реформа, проведенная им внутри государства, давала ему надежду справиться с этой задачей. Дворяне и торговые люди поддерживали его планы.
Естественно, что опричнина не могла не вызвать сильного противодействия со стороны крупных феодалов. Среди бояр возникали несколько раз очень опасные заговоры. В целях свержения царя завязывались сношения с иностранными государствами, находившимися в войне с Россией. В союзе со светскими феодалами выступала часть церковных магнатов. В 1567 г. были раскрыты сношения значительной группы бояр с Сигизмундом-Августом, имевшие целью путем предательств освободиться от «тирании» Грозного при помощи Литвы. В заговоре был замешан князь Владимир Андреевич и высшие слои населения Новгорода. Благодаря тому, что среди самих заговорщиков не было единства, замысел их был раскрыт. Стоявший во главе заговора боярин И.П. Челядин и ряд других лиц были казнены.
Попытка митрополита Филиппа (из знатного рода Колычевых) вмешаться в пользу бояр привела к резкому столкновению между ним и царем; в 1568 г. Филипп был низложен и сослан в тверской Отрочь-монастырь, где затем был удавлен.
В начале 1569 г. по приказанию Ивана IV принял яд и князь Владимир Андреевич.
Разгром Новгорода
В 1569 г. наступил очень тяжелый момент во внешней политике, которым попытались воспользоваться недовольные. В этом году на польско-литовском сейме в Люблине состоялась уния «короны» польской и Великого княжества Литовского в единое государство – Речь Посполитую – на федеративной основе. На том же сейме в августе была подтверждена уния Ливонии с Литвой. Последний магистр Ливонского ордена Кетлер сохранил Курляндию в качестве вассала Сигизмунда II Августа. Орден перестал существовать даже формально.
Люблинская уния усилила позицию Литвы и Польши в Прибалтике. С другой стороны, окончание семилетней шведско-датской войны (1563–1570) открывало Швеции и Дании возможность активного вмешательства в войну России с Ливонией.
В таких условиях Иван IV изменил свою тактику в Ливонии. С целью привлечь на свою сторону население завоеванных областей и обеспечить нейтралитет Дании он решил образовать в Ливонии вассальное, зависимое от Москвы королевство.
Во главе этого королевства он поставил Магнуса, брата датского короля Фридриха II, получившего незадолго перед тем от последнего владения, купленные у эзельского епископа.
Для большей прочности Иван IV женил Магнуса на своей племяннице Марии, дочери князя Владимира Андреевича Старицкого. Русские войска под начальством «короля» Магнуса летом 1570 г. приступили к осаде Ревеля, занятого шведами. Одновременно Иван IV организовал борьбу с вражеским каперством на Балтийском море путем найма на московскую службу датских каперов.
Несмотря на все эти мероприятия, ситуация становилась очень невыгодной для Москвы. Под Ревелем московские войска потерпели большую неудачу.
Положение осложнялось тем, что усилия польско-литовского правительства вовлечь в войну Турцию и Крым увенчались в 1569 г. успехом. Султан Селим II снарядил большой поход на Волгу и хвалился отнять у России бывшие Казанское и Астраханское ханства. Согласно плану, выработанному в Константинополе, предполагалось прорыть канал между Доном и Волгой и этим путем провести турецкий флот под стены Астрахани. Захват Астрахани сулил Оттоманской Порте не только господство в Нижнем и Среднем Поволжье, но и большие торговые выгоды, а также возможность действовать с севера против враждебной ей Персии.
Однако тяжелые климатические условия, трудности инженерных работ по прокладке канала и особенно враждебное отношение к проекту крымского хана Девлет-Гирея, опасавшегося усиления Турции в Причерноморье, привели к полной неудаче всего замысла.
Зато в 1571 г. сам Девлет-Гирей, при участии турецкого вспомогательного отряда, произвел опустошительный набег на московские пределы. Застигнутые врасплох, московские воеводы отступили к Москве, откуда спешно выехал царь и вся его семья. Татары сожгли город и ушли с громадным полоном.
О катастрофических размерах бедствия, постигшего столицу, равно говорят русские и иностранные известия.
* * *В пограничных районах, непосредственно примыкавших к театру военных действий, было неспокойно. В декабре 1569 г. до Москвы дошли слухи о готовившейся измене Новгорода. Иван двинулся походом на Новгород и, по пути разгромив Тверь и некоторые другие города, вступил 2 января 1570 г. в Новгород, как в завоеванный город.
В течение шести недель продолжалась жесточайшая экзекуция над новгородцами: тысячи людей были подвергнуты пыткам и утоплены в Волхове. Особенно пострадало новгородское духовенство, которое, по-видимому было замешано в заговоре. Архиепископ новгородский Пимен был с позором низложен и сослан
После Новгорода Грозный пошел на Псков, но здесь дело ограничилось конфискациями имущества и отдельными казнями.

Опричники в Новгороде. Художник М.И. Авилов
Опричники использовали новгородский поход для личного обогащения, и после того как Иван IV вернулся в Москву, продолжали грабить Новгородскую область. Опричник Генрих Штаден откровенно пишет: «Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь, а вернулся я с 49, из них 22 были запряжены в сани, полные всякого добра».
«Обыски» (т. е. обследования), произведенные в новгородских пятинах тотчас после царского похода, показали жестокое опустошение сельских местностей «от государевой опричнины»: крестьянские дворы были сожжены, скот уведен или перерезан, часть крестьян была убита и замучена, часть разбежалась.
Дело о новгородской измене коснулось многих крупных государственных деятелей Москвы, которые по возвращении царя из похода были казнены с утонченной жестокостью. В их числе погиб и Иван Михайлович Висковатый, долгое время руководивший всей внешней политикой Московского государства: ему были поставлены в вину самостоятельные сношения с турецким правительством, без ведома царя. Замешанными в измену оказались и некоторые видные опричники, в том числе близкие к царю князь Афанасий Вяземский, Басмановы отец и сын и др. Начались казни самих опричников.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.