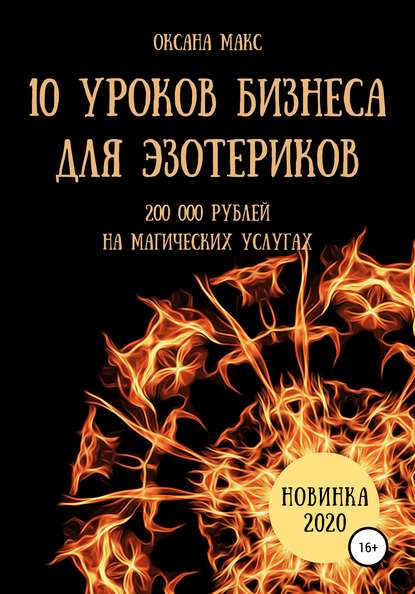- -
- 100%
- +
Вполне ожидаемый телефонный звонок, обычная «рутина» официанток – поменять пепельницу, спросить «Что-нибудь ещё?» – спасибо, – но что-то изменилось, и в кафе, и в самом Полевом, и теперь мысль о том, чтобы порвать конверт, показалась какой-то неприличной, грубой, всё равно что плюнуть на пол, всё равно что сказать девушке: «Отстань, дура».
Словно что-то произошло. Событие, со-бытие. Не так давно Полевой обсуждал нечто похожее с Ларкой-Синицей. Она сказала: «Ничего не происходит», – а он спросил: «Совсем?» – «Ну, да, – ответила Ларка, – с утра до вечера одно и то же». И принялась перечислять свои привычные дела: убралась в квартире, приготовила кушать, закончила перевод, встретилась с заказчиком… «И что, – спросил Полевой, – это не события?» – «Да уж! – засмеялась Ларка-Синица. – Никогда со мной такого не происходило! Это перевернуло жизнь с ног на голову!»
Полевой похлопал ладонью по карману с конвертом и спросил сам себя, улыбнувшись, вслух, шёпотом:
– Пусть остаётся на память?
Память. Помять. Помять память. Когда-то в гороскопе он вычитал: «Раки таскают за собой прошлое, как мешок». Что ж, так и есть. Полевой трепетно, временами даже чересчур, относился к прошедшему. Или точнее – бывшему, но не прошедшему. «Что-то проходит, а что-то никак». В квартире в ящиках стола у Полевого собралось немало «памяток», что угодно – два билета на «Воплі Відоплясова» с оторванными корешками, спички из «Irish Pub», визитки с выставок, палочки из «Ха Лонг» (Галя-Галка попросила тогда обычные приборы), давно просроченный студенческий… Да и сейчас, при себе: зажигалка, от которой он только что прикуривал, – не самая дешёвая, не самая дорогая – выкинуть, купить новую – но Полевой заправлял её снова и снова. А ещё брелок – доминошная кость, три-шесть. А ещё – жетончик из харьковского метро. А ещё – крошечная заклёпка от джинсов «Nimmie Amee». Всё то, что забыл забыть. Не говоря уж про эсэмэски, сбережённые, сохранённые: с полтысячи принятых, столько же отправленных.
«Отпусти ты вчерашний день, – сказала Викуля-Снегирь. – Пусть идёт». К слову, на Скрипку сотоварищи тогда, в «Гоголя», он ходил с ней.
Дверь в кафе открылась. Вошедший был высоким – не ниже метра восьмидесяти пяти. Не качок, но спортивного вида. Кроссовки, джинсы и курточка – синяя, с полосками на рукавах, – застёгнутая под самое горло.
Межник, почему-то сразу же подумал Полевой.
«Спортсмен» сделал шаг и замер, посмотрел сперва на парочку, потом на официантку, и только после – на Полевого. Словно выбирал, к кому именно подойти. Хотя какие тут варианты? – парочка вряд ли кого ждала, официантка подойдёт сама. Оставались столик Полевого, свободные столики, или же – на выход. Если, конечно, исключить варианты типа «Я хотел бы поговорить с администратором» и «Вашему вниманию предлагается новейшее средство от тараканов». Нет-нет, такие ведут себя гораздо уверенней, если не сказать – наглее, и уж точно не будут осматриваться – напрямую (напролом) к цели.
– Не путай прошлое и память.
– А ты при параде, – сказал «спортсмен», отодвигая стул и присаживаясь напротив Полевого. – Как на свидание пришёл.
– Обещали, будет не пыльно, – немного неуверенно ответил Полевой. На нём была белоснежная, только с утра распечатанная рубашка. Длинные рукава, чёрные готические буковки на спине: «Woodman». Не абы какая ценность, но всё же – пачкать и портить рубашку в первый же день не хотелось.
– Обещали-обещали, – усмехнулся «спортсмен» и протянул руку. – Межник.
– Полевой.
Несколько часов назад, услышав фамилию Межник, Полевой представил себе его именно таким – высоким, подтянутым – экстремалом из передач про горы-моря-океаны. Считай – не ошибся. Не хватало разве что сноуборда под мышкой. А вот Колодезного, наоборот, вообразил низким, толстым и неуклюжим – похожим на Весельчака У из мультика.
– А что наш третий? – спросил Межник.
– Ждём, – пожал плечами Полевой.
Колодезный явился без пятнадцати одиннадцать. Сощурившись, осмотрел зал и через секунду зашагал к «правильному» столу.
– Вы – Полевой и Межник? – спросил он.
Рост – метр семьдесят, небольшое брюхо, в движениях – скорее заторможенность, чем неловкость.
– А вы? – растянув улыбку, поинтересовался Межник.
Глава 4
Идея была величественная, но создавала какое-то ощущение неудобства.
Стефан Ликок, «Здравый смысл и вселенная»Все говорили: «её тело» – будто бы нашли не её, а лишь что-то некогда ей принадлежавшее. Всё равно что: её туфли, её платье, её куртку, сумочку, документы, ключи. «Ты что-то потеряла?» – «Да, своё туловище».
Сперва Саныч подумал, что девушка спит – «нажралась и отрубилась». Место было соответствующим. Детская площадка в парке: лесенки, качели, карусели – поржавевшие, покосившиеся – с детьми здесь гуляли нечасто, тем более, что совсем неподалёку, за прудом, была новенькая площадка с радующими глаз синими, красными, жёлтыми, зелёными башенками, горками, туннелями. Девушка лежала на лавочке, рядом валялись бутылки, какие-то пакеты, окурки – не факт, что её. Здесь постоянно кто-то пил, дрался, выяснял отношения, и снова пил, пил, пил. Такие заброшенные площадки есть везде – к ним быстро привыкаешь, спокойно, не обращая внимания (как на вокзальных бомжей-попрошаек), проходишь мимо, или же – обходишь стороной.
Саныч сразу тоже прошёл мимо, лишь покосившись на девушку, но почему-то вернулся.
Она была совсем юной, двадцать – двадцать один, не старше. Голубые джинсы, водолазка и чёрный пиджак с едва заметными вертикальными полосками. Руки замерли в неестественном положении, как у тряпичной куклы. У девушки были длинные ярко-рыжие волосы. Пустой взгляд таращился куда-то вверх, в небо.
Дилинь-дилинь, дилинь-дилинь, дилинь-дилинь – настойчиво напомнил кто-то о себе.
Горизонт бросил открытку на кровать и посмотрел в сторону прихожей. Казалось, там спрятались все-все тени, что когда-нибудь гостили в квартире. Резервация. Краешек зеркала поблёскивал, словно глаза хищника. В бытность «Наутилуса Помпилиуса» Бутусов пел: «Она ненавидит свет, но без света её нет». Коридорная темнота, в которую вглядывался Горизонт, была иной породы. Ей было не важно, светит ли солнце за окном, задёрнуты ли шторы, горит ли люстра в комнате – как вечной мерзлоте не важны похолодания и оттепели.
Горизонт зачем-то повернулся и глянул на картину над телевизором – привычно-пошлую: пляж и голая тётка – и лишь затем встал и пошёл открывать дверь.
Не включая свет в прихожей, он нащупал замок и щёлкнул ключом.
На лестничной клетке стоял двойник Билла Мюррея, или даже – его альтер эго, будто бы актёр ушёл из кино после «Заводилы», поселился где-нибудь в лесу или у моря, и года через три стал именно таким: лицо, загоревшее уж точно не в солярии, погрустневшая улыбка и руки, как у того моряка в романе Кристин Валлы: «Кожа на руках у него была сухая и жёсткая, порой на ней можно было видеть трещины, которые начинались от костяшек и терялись где-то на ладони».
– Я от Владлены, – сказал мужчина, – за деньгами, – и замолчал. Видимо, хотел ненадолго сохранить интригу (какая Владлена? какие деньги?) или думал произвести впечатление серьёзного – важного, делового – человека. Мужчина даже нахмурил брови, но такой взгляд показался искусственным, чужим.
– Шестьдесят гривен, – пару секунд спустя продолжил он, – в холодильнике должны были оставить.
Горизонт кивнул в ответ и закрыл дверь. Медленно, осторожно. Так закрывают дверь в спальню, где только что (после получаса «Мама, принеси воды» и «Я хочу пи́сать») уснул ребёнок. Не дай бог разбудить.
Из ночи в день и обратно. Горизонт прошёл на кухню, открыл холодильник – пятнадцативаттная лампа была похожа на спрятанный про запас солнечный свет, – едва заметно улыбнувшись, провёл рукой по банкам со сгущёнкой, взял деньги из ящичка и вернулся в прихожую. Щёлкнул замком, вручил гостю три двадцатки.
– Спасибо, удачи, – сказал мужчина.
Снова наступила тишина. Будто кто-то нажал на кнопку «mute».
Медленно, кивая на ходу в такт неслышной песне, Горизонт направился в комнату.
Вариант I
Александр Александрович пробежал взглядом по первому разделу, бормоча сам себе:
– Понятно, понятно… это тоже… ага, – и чуть громче: – Ага.
Учитель закрыл учебник, заложив палец между страничками, и посмотрел на класс. Три ряда парт, осеннее солнце сквозь шторки. В глазах школьников – немного заинтересованности, любопытства, какой-то растерянности, порой – тревоги, а иногда и безразличия, пока ещё – детского безразличия. Словно игра: семиклассники замерли, ожидая команды ведущего.
– Вот что, – сказал он. – Что такое геометрия, прочтёте дома. Откройте второй раздел.
– Так, может, сразу экзамен? – громко спросил кто-то с задней парты. Класс рассмеялся. И ожил.
– Мы и второй дома прочтём.
– Давайте лучше пятый!
– Вот это – по-мужски!
– Александр Александрович, – Воронина подпёрла подбородок ладошкой. – У нас геометрия до одиннадцатого класса. Не нужно весь учебник за один день, а?
Длинные реснички, подведённые глаза.
Саныч словно ничего не услышал, поправил шарф и продолжил:
– Точка и прямая. Начнём, пожалуй, с точки.
В открытое окно сразу же ворвался утренний город: мчащие по проспекту машины и приглушённые – эхо – скрежеты, скрипы, хлопки, голоса. А ещё запахи: влажный (от луж), табачный дым (курил кто-то из соседей) и едва уловимый городской, как запах кожи, который и не замечаешь – с окраины, от заводов – химических, металлургических.
Прямо под окном была крыша магазина. Прямоугольники рубероида. Так выглядят поля, если смотреть из самолётного иллюминатора, или – раз уж все они серые – чёрно-белая аэрофотосъёмка. Кое-где валялись окурки, целые островки, а иногда и мусор покрупнее – сигаретные пачки, пластиковые бутылки, какие-то пакеты. Жильцы бросали из окон то же, что и всегда, только вот дворники сюда не забирались.
И вдруг Горизонт словно вспомнил о чём-то. Отошёл от окна, быстрым шагом – герой рекламы, хлебнувший энергетика – двинул к кровати, стал что-то выискивать. Он отложил в сторону фотографию в рамке, будильник, несколько писем, ручку, потрёпанный блокнот. Затем взял сумку и побросал всё это в неё.
Уличный шум будто бы растормошил Горизонта, вдохнул в него жизнь. Крути педали, двадцать четыре дробь семь, в гробу отоспишься.
Горизонт заскочил на кухню, вытащил из холодильника банку сгущёнки, положил в сумку, и тут же, усмехнувшись, вытащил ещё одну… Включил свет в прихожей. Обулся, надел пальто и вышел из квартиры.
Оставшаяся пустой комната всё ещё помнила о постояльце. Он скоро будет, вот его вещи. Рубашки, носки-трусы на кресле, барсетка на журнальном столике, куча всего на кровати. На месте картины, той, что висела над телевизором, осталось светлое пятно – не выгоревшее, не загоревшее. Как белая полоска от купальника.
Закрыв дверь и положив ключ в карман, Горизонт скорей всего хотел резво спуститься по лестнице, но сделал лишь пару шагов и замер.
Этажом ниже, на площадке, кто-то с кем-то оживлённо спорил. А впрочем, спор уже достиг той стадии, когда аргументы закончились и его правильней было бы назвать руганью.
– Прислоняйся! – рявкнул мужской голос. Серёдка – слон – прозвучала как-то особенно грубо, выпала, выскочила из слова. Какое-то «при», какие-то «яйся» и слон-главнокомандующий.
– Слонопотам – налей сто грамм! – завизжала в ответ женщина.
Осторожно, чтобы не выдать себя, Горизонт спустился на пару ступенек и, придерживая рукой полы пальто, присел на корточки.
Лица женщины было не видно – она стояла в дверях, в прихожей (рак-отшельник): наступила на порог мохнатой тапочкой, тыкала пальцем в стоящего перед ней мужчину. Который, к слову, оказался хоть и не старым, но знакомым – тем самым, которому Горизонт только что отдал деньги.
– Заслон прислоню! – продолжил ссору мужчина. – Слоном прослоню!
– Слонов не считай – иди помечтай! – мгновенно нашлась женщина.
Мужчина взбесился.
– Слономатка, слонить твою мать! – закричал он. И тут же стукнул кулаком по наличнику.
Удар получился сильным, как говорят – смачным. А ещё – отрезвляющим. Оба замолчали. Мужчина посмотрел в пол – то ли вмиг успокоившись, то ли испугавшись того, что чуть было не произошло. Опять двойка? Проштрафился? Стратил? Он развернулся и побрёл вниз. Медленные шаги – словно пытающиеся что-то сказать – извиниться, доказать, объяснить. Женщина закрыла дверь. Не хлопнула, что, наверное, больше подошло бы к ситуации, а прикрыла, мягко-мягко.
Горизонт немного выждал и спустился на второй этаж. Подошёл к двери, глубоко вдохнул, выдохнул и нажал на кнопку звонка.
– Недослон – слонозвон, – пробурчала хозяйка квартиры открывая дверь. Но, едва увидев Горизонта, стихла. Конечно же, она узнала его. Тут уж ни на какие котлеты не спишешь, тут уж не почудилось. Женщина перекрестилась и попятилась назад – беспомощная, напуганная. Она даже не думала, что делает, что нужно сделать – закричать, запереться в ванной, схватить что-нибудь – туфлю, лопатку – или бегом на кухню за ножом; в голове путались совсем другие мысли: как? почему? зачем? за что?
Сложив ладонь в кулак, Горизонт размахнулся и треснул по наличнику. Аккурат туда же, куда и приходивший от Владлены мужчина.
– Вот тема сочинения, – сказал учитель и ткнул указкой в плакат.
Я, ПОХОРОНИВШИЙ ОТЦА, Я, ТОЛЬКО ЧТО РЕБЁНКОМ ИГРАВШИЙ В СИММЕТРИЧНЫХ САДАХ ХАЙ ФЫНА, Я САМ ДОЛЖЕН СЕЙЧАС УМЕРЕТЬ?
Хорхе Луис Борхес, «Сад, где ветвятся дорожки».
Весь кабинет зарубежной литературы был увешан такими плакатами-цитатами. Чёрным по белому. Попав сюда в первый раз, ученики обычно осматривали всё, читали, что где написано, толкали друг друга: глянь! посмотри! зацени! А потом, уроке на втором-третьем, кабинет становился обычным кабинетом. Не такой сырой, как на гэ-о, – и на том спасибо. Спроси у кого, а была ли в кабинете цитата из Пруста – никто и не вспомнит.
– Не торопитесь, на всё про всё у нас два урока.
Из школьных сочинений:
…Всё дело в симметрии сада. «Я» повторяется трижды. Первое «Я», похоронившее отца, второе – увидевшее симметрию, – и третье – готовящееся к смерти. История, повторяющаяся вновь…
…Это часть чего-то – рассказа, романа, – и мне кажется, являясь частью чего-то, эти строчки не столь уж важны, как мы себе вообразили…
…Хай Фын может быть и городом, и человеком – это не имеет никакого значения…
…Это три человека. Один – зрелый, спрашивает: «Почему?»; другой – играющий ребёнок, видит уныние и удивляется: «Что произошло?»; третий – пожилой: «Я сам должен сейчас умереть?» Три взгляда в одну точку и три вопроса, звучащие как один.
…Если просуммировать порядковые номера букв Хай Фын, получится 101. Трёхзначное число. Три «Я». Две единицы и ноль. Единица, означающая нечто, и ноль как пустота… Три этапа жизни «Я». Симметрия сада и симметрия жизни. Единица как начало и конец – смерть отца и ожидание собственной, ноль – как пустота середины…
…Это вопрос богу. И слышим мы его, как слышит бог. Он смотрит сверху, и ему открыта симметрия сада…
Он сел в троллейбус на Октябрьской площади.
– Оплачиваем проезд, – сказала кондуктор Горизонту и ещё двоим, вошедшим здесь же. Ей было лет двадцать. Круглый значок «кондуктор-контролёр» на лацкане пиджака, собранные в хвост длинные рыжие волосы.
Глава 5
Сто городов назад, где сотни других имён.
«Tequilajazzz», «Америки»Такие кафе Полудницин называл «американскими». Из-за интерьера. Клетчатый пол, бордовые кожаные диванчики, столики с закруглёнными углами. Вроде купе или кабинки – диван, стол, диван; и тут же снова – диван, стол, диван, и снова, снова. Казалось, сейчас кто-нибудь щёлкнет рубильником, и эта змейка придёт в движение, помчит по кругу, как карусель в парке. С потолка свисали светильники. На каждом столике стояли красные и жёлтые «брызгалки» (яркие, словно спортивные машины), солонки-перечницы, пепельницы (снова яркие, снова красные и жёлтые), жестяные коробочки с салфетками. На стенах висели чёрно-белые фотографии каких-то лесов и озёр. Барная стойка напоминала ленту выдачи багажа в зале прибытия – вперёд, полукругом и обратно. Возле стойки – высокие барные стулья с круглыми сиденьями. Над входом – большущие часы. Как в кино. Не хватало разве что музыкального автомата и флага.
Антон полистал меню – негнущиеся ламинированные странички на пружине – и выбрал яблочный штрудель. На картинке он выглядел весьма аппетитно. Извини, Куп, вишнёвый пирог в другой раз.
– Вот этот штрудель, – сказал Антон официантке. – И кофе.
– Кофе – эспрессо или американо? – уточнила она.
– Американо.
Девушка кивнула и забрала меню.
Проводив официантку взглядом, Антон достал из сумки дедовы воспоминания – стопку тетрадок, обычных ученических, тонких, в клетку. Их обложки были какими-то бледными, тусклыми, и Антон сперва даже подумал, что тетради – старые, откуда-то из дедового времени, откуда-то из «до меня» – шестидесятых, семидесятых, – ждавшие своего часа в кладовке, на антресоли, или где-нибудь ещё. Он взял верхнюю и перевернул. «18 листов. Цена договорная». Значит, новая – в те времена вроде не с кем было договариваться. По крайней мере, в киосках «Союзпечати». Антон посмотрел на следующую. Таблица умножения – столбики от 2 × 1 до 9 × 10 – а ниже: артикул, ёлка-эмблема и «Бумажная фабрика «Герой труда»». Точнее – «ОАО «Бумажная фабрика «Герой труда»”». ОАО, обновлённая актуализированная осовремененная… То же было и на остальных тетрадках: акционерные общества и договорные цены. Как советские фильмы на DVD, как карта времён войны на экране монитора – прошлое в настоящем.
Все тетради были подписаны. «г. Мелекесс. Школьные годы», «Отец уехал из Запорожья. Живу на частной квартире на Вознесеновке, потом на 6-м посёлке», «Воспоминания 1947—1948 г.» и самая первая, с нехитрой пометкой в углу: «Тетрадь I».
Её Антон и открыл. Записи начинались с даты: 22/VIII—99, – затем шло название, вроде как общее для всех тетрадей: «Вехи моей жизни. Которые помню», а потом…
Пишу, пока ещё могу писать, пока ещё помню. Пишу, пока ещё не разучился писать, т. к. писать приходится редко, разве что доверенность на получение пенсии или заявление на материальную помощь. Пишу о себе и о своей жизни. Надеюсь, это будет интересно сыну, внукам1.
На слове «внукам» Полудницин запнулся. Или споткнулся об него. Почерк деда и так был невнятным – на некоторых словах приходилось останавливаться, вчитываться в них, пытаться разобрать наползающие друг на друга буквы, но «внуки» победили всех. Не формой и написанием, а, так сказать, содержанием. Антон был единственным внуком, и множественное число казалось чужим, списанным, заимствованным. Чем-то шаблонным, чем-то, что пишут и говорят, не задумываясь: «Я хотел бы поблагодарить избирателей за поддержку».
Или, улыбнулся Антон, у деда были внебрачные дети? Хотя, нет – он написал «сыну». Значит, у отца? Или дед посчитал, что антоновы родители решатся в свои пятьдесят на ещё одного ребёнка? Да и заглавие – вехи – тяжёлое, неповоротливое.
Между Полуднициным и текстом возникло какое-то напряжение. Такое случалось и прежде, правда, не с написанным, а с людьми. Без видимой причины.
Например, на той же работе, в первые дни – дело было в пятницу, которая, как выяснилось, «рабочая» лишь до обеда: впрочем, никто не расходился, все оставались в офисе до положенных шести, но вот звонки-счета-договора откладывались на понедельник.
Как в анекдоте: «Что за перекуры во время работы?» – «А никто и не работает».
В начале второго к Антону подошёл Бомка и спросил: «Ты что пить будешь?» Полудницин вопрошающе глянул на коллегу. Бомка удивился в ответ. «Тебя что, – спросил он, – по объявлению наняли?» Антон ничего не ответил, бородач хлопнул в ладоши. «Ну как же! Конец недели – хватит вкалывать, – Бомка пожал плечами, мол, что тут непонятного. – Ячичная по пятницам всё равно не приходит…»
«В общем, – он будто бы подвёл черту, – я бегу в магазин. Девчонкам – мартини, нам с охраной – коньяк. Тебе что брать?» – «Пиво», – ответил Антон. «Трёх хватит?» Полудницин кивнул.
Бегал Бомка недолго – за смертью таких не посылают. Минут через пятнадцать он вернулся в офис, громыхая бутылками в пакете, и бодро сказал: «Прошу, к столу». В комнату, где сидел Полудницин – вроде как самую просторную, – прикатили кресла. А дальше – обычное отмечание чего-то на работе, разве что тосты были не за кого-то или за что-то, а в общем. И разговоры о производственном вперемешку с личным. Когда Антон открывал вторую бутылку, речь вдруг зашла о кино.
«Вчера кино такое классное смотрела, – сказала Хохликова. – Наше. По „Первому“. Там ещё актёр снимался, тот, что Космоса играл».
«Дюжев, – подсказал Бомка и пододвинулся к ней вплотную. – С ним, кстати, недавно другой фильм вышел, – Бомка как бы между прочим обнял Хохликову, но она тут же скинула его руку, – „Остров“. Дюжев весь фильм на себе вытянул. Если б не он…»
«А как же Мамонов?» – влез в разговор Антон.
Бомка посмотрел в сторону Полудницина и махнул рукой.
«Да, – чуть ли не зевая, сказал бородач, – Мамонов, – и тут же, повернувшись обратно к Хохликовой, сменил интонацию, заговорил как мультяшный злодей: – Дюжев там самый яркий герой. Ты б видела! С бородой такой. Батюшка. В рясе».
Вот вроде бы и всё, такие зёрна не прорастают, сколько их не поливай, но всё же что-то случилось – между Антоном и Бомкой появилось какое-то напряжение, даже не потому, что зарождался конфликт (с чего бы? не поделили Мамонова с Дюжевым?), а потому что такая возможность просто существовала – в теории, где-то.
Остаток дня – рассказывая анекдоты, наблюдая, как Бомка играет с Хохликовой в кошки-мышки, смеясь, выходя покурить – Антон ощущал это непонятное напряжение. Да и Бомка, похоже, чувствовал то же самое.
Ну и хрен с ними, с внуками, подумал вдруг Полудницин, может, просто описка. И вехи в названии – дед ведь подводил итог всей своей жизни, так почему бы и не вехи?
Антон продолжил читать.
Я о своём отце знаю мало и в общих чертах. Родился отец в селе Теньковка Самарской губернии Средне-Волжского края 30 января 1906 г. Рано потерял родителей. Его отец Алексей погиб на русско-германском фронте. Мать Ремнева умерла, когда отцу моему было 4 года, и остался он сиротой. Ремнева – это девичья фамилия матери. Это случилось в 1910 г. Я её не знал и не знаю, как звали. Отец воспитывался у дядек. Одним из них был дядя Семён.
Отца я помню как доброго человека. Он нас, детей, никогда не бил. Когда возвращался с работы или из поездки в район, часто привозил разные гостинцы: то торт бисквитно-кремовый, то ветчинно-рубленую колбасу, которая тогда была в виде больших шаров, в натуральной оболочке, мясная, вкусная, не то что теперь. Я и Володя подбегали к нему, кидались на шею и спрашивали: «Папа, что принёс?» И когда ничего у него не было – он отвечал: «Сам пришёл». От отца пахло одеколоном и папиросами. Когда я пошёл в 1-й класс, учительница спрашивала, кем работают родители. Я знал, что мама нигде не работает – она домохозяйка, а про отца не знал точно, какая у него должность, знал только, что он работает в МТС. Пришлось спросить у отца о его работе, и он ответил, что работает замдиректора МТС по политчасти.
Иногда отцу приходилось выезжать на 1—2 дня в район в совхозы и колхозы. Он называл их, куда едет, говорил маме: я еду сегодня в совхоз им. Нариманова, или Лебяжье, или в «Третий решающий». Из района иногда привозил подарки. Это были механические игрушки. Особенно запомнились 2 поросёнка. Один играл на скрипке, другой бил в барабан. Эти игрушки заводились ключом, и когда их ставили на стол, скрипач водил смычком, и от вибрации двигались по столу, пока не кончался завод пружины. Сделаны игрушки были из жести и одеты в суконные сюртучки чёрного цвета. На голове были красные шляпки, из-под которых выглядывали розовые поросячьи пятачки. Эти игрушки мы с Володей очень любили. Слава ещё не родился.
Семья жила в г. Карсун. Когда отец был дома, он сажал меня к себе на колени, качал и курил папиросы. Из папиросы выходил струйкой белый дымок. Мне было интересно, и я потянулся к папиросе. Отец вынул папиросу, дал мне в рот и сказал: вдыхай дым в себя. Я вдохнул и от едкого дыма закашлялся. Дым мне показался очень противным. Больше я не пробовал брать папиросы в рот, и отвращение к куреву осталось на всю жизнь.