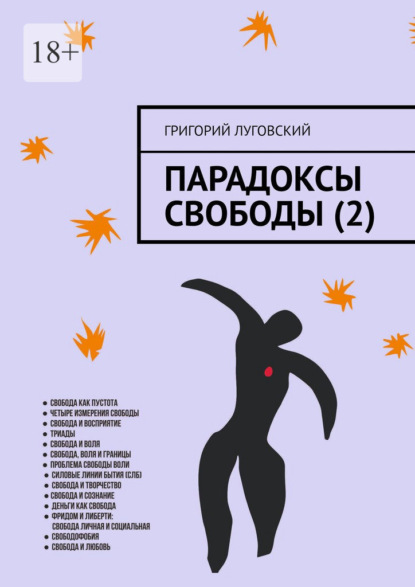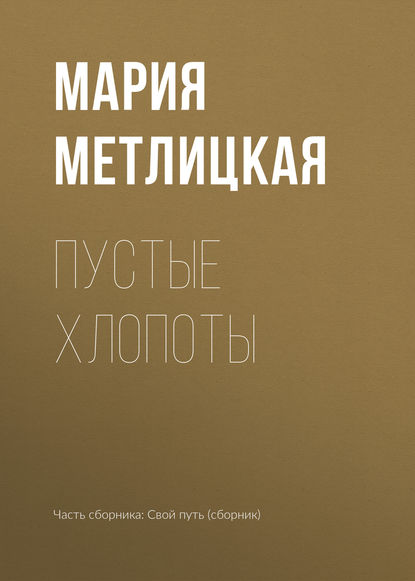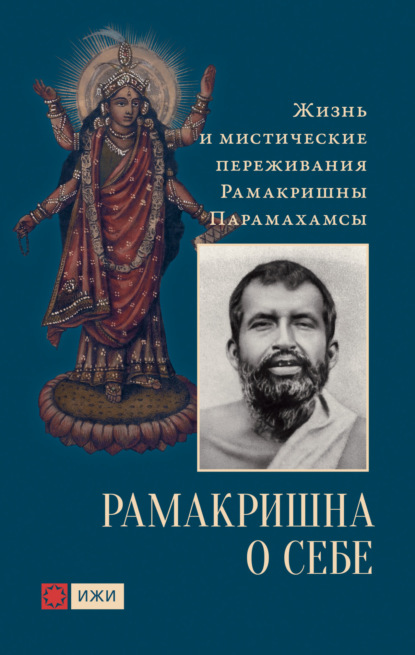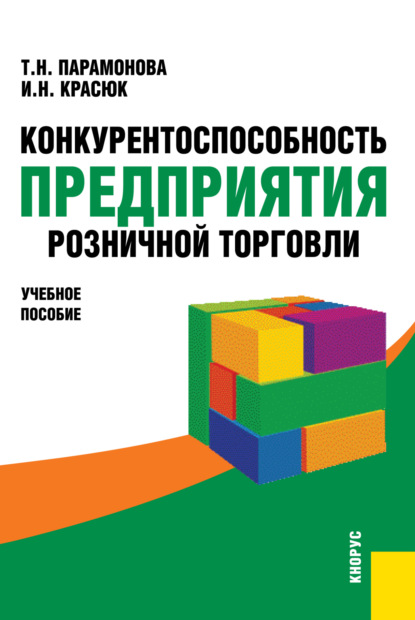- -
- 100%
- +

© Григорий Владимирович Луговский, 2025
ISBN 978-5-0067-0676-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Тема свободы будоражила умы мыслителей на протяжении веков, особенно пары последних. Но никто так и не дал ясного ответа на простой, казалось бы, вопрос: что же такое свобода? Все исследователи свободы походили на слепых мудрецов из общеизвестной притчи про слона. Когда слепые мудрецы принялись описывать слона, то каждый ощупал его лишь с одной стороны. И получилось, что слон был похож на веревку (мудрец ощупал его хвост), шланг (хобот) или столб (нога слона).
Похожая ситуация сложилась с описаниями свободы мудрецами. Мы видим череду интуитивно понятных представлений, но ни одно из них не дает полной картины свободы. Более того, часто эти описания не согласуются между собой, хотя очевидно, что они выражают некоторые сущностные стороны свободы.
Вот, например, цитата из М. Мамардашвили: «Под свободой обычно эмпирически понимают „свободу выбора“. Считается, что мы свободны тогда, когда можем выбирать; и чем больше выбора, тем больше свободы. Если у человека есть свобода выбора, то свободой называется, во-первых, само наличие выбора, и во-вторых, непредсказуемость того, что именно он выберет. Таков эмпирический смысл термина „свобода“. А философ говорит нечто совсем другое – более правильное. Он говорит: проблема выбора никакого отношения к проблеме свободы не имеет. Свобода это феномен, который имеет место там, где нет никакого выбора. Свободой является нечто, что в себе самом содержит необходимость – вот как введена категория. Нечто, что является необходимостью самого себя, и есть свобода».
Получается, что существует эмпирическая и философская свобода. Но как они согласуются друг с другом? Мамардашвили не даёт разъяснения, для него лишь философская свобода является «более правильной».
В другом месте тот же Мамардашвили озвучивает третье определение свободы: «свобода – это когда свобода одного упирается в свободу другого и имеет эту последнюю своим условием». Как видим, даже один философ может спокойно называть свободой разные явления. Тем не менее, в его понимании эти дефиниции свободы уживаются. Все эти определения имеют свою логику, просто ее никто последовательно не раскрыл.
У большинства философов свобода возникает словно черт из табакерки, как непознаваемое явление. Для одних свобода – феномен божественный, для других – проклятие человеческого рода, мешающее всем маршировать единым строем. Разобраться в этой проблеме и расставить точки над «i» в вопросах о свободе призвана эта книга.
Основная мысль «Парадоксов свободы (2)», которую я попытаюсь раскрыть – свобода имеет основание в мире, сам мир невозможен без нее, а не только человек, которого многие философы называют единственным действующим лицом свободы. Но человек действительно особенный актор свободы. Все успехи и проблемы человечества так или иначе связаны со свободой. Продолжайте чтение до конца, чтобы снять затемняющие повязки с глаз и узреть слона свободы во всей его сложности. Хотя раскрыть эту тему «до конца» невозможно, ведь свобода не предполагает окончательности. Она приходит к нам в разных формах и обличьях, поскольку сама не имеет формы. Разглядеть свободу или волю за множеством явлений – прикладная задача любого ума.
Несколько слов об истории создания книги. Интерес к теме свободы во мне открылся случайно, когда на одном из форумов в 2007 году я придумал себе ироничную подпись: «Свобода – это расстояние от меня до вас». За этим последовали более серьезные раздумья о свободе. В конце 2008 года на том же форуме я опубликовал пространный пост, где изложил идею о том, что свобода это пустота. Данный текст можно найти в приложении к этой книге. Следующее озарение на тему свободы случилось летом 2011 года, когда я написал «Четыре измерения свободы». В конце 2013 я решил раскрыть тему свободы в форме книги, чтобы окончательно закрыть этот вопрос для себя.
Это вторая версия «Парадоксов свободы», отсюда и специфическое название с двойкой в скобках. Первые «Парадоксы» были завершены в марте 2014 года и вскоре опубликованы через электронную платформу «Издательские решения». Но с тех пор многие взгляды на свободу пришлось пересмотреть, некоторые темы требовали более тщательного рассмотрения. Поэтому появилась вторая редакция книги – расширенная и более дотошная в отдельных деталях. Это примерно на 70% новый контент.
Основной текст второй редакции создан в конце 2024 – начале 2025 годов. В конце книги есть «Приложение», куда вошли разные тексты на тему свободы, написанные ранее, но представляющие собой отдельные эссе. Они либо детальней раскрывают какие-то контексты этой книги, либо служат иллюстрацией моих более ранних, не вполне оформившихся взглядов на свободу. У меня нынешнего могут быть претензии к форме, но в основном я согласен с содержанием этих текстов.
Вместо эпиграфа: Желания и возможности Несколько вопросов без ответов
Какая разница, что ты делаешь, если ты делаешь не то, что хочешь?
Какая разница, с кем ты, если ты не с тем, с кем хочешь?
Какая разница, где ты, если ты не там, где хочешь?
Какая разница, кто ты, если ты не тот, кем быть хочешь?
Какая разница, как именно ты компенсируешь то, что не можешь получить?
Существует ли только один правильный выбор для каждого из нас? Или, может быть, выбор и делает нас? Каждый акт выбора – шаг на пути к становлению собой.
В таком случае ограничение выбора, действующее в любой системе, способно исказить нашу возможность выбирать и быть собой. Мы становимся теми, кем мы есть, а не теми, кем могли бы быть, если бы действовали свободно. Ведь выбор – это проблема, и не каждый готов переживать её снова и снова. А потому человек принимает отказ от части свободы, делегируя её системе, порядку, который «освящает» протекающие процессы и существующее положение вещей.
Как мы можем быть уверены в каждом новом выборе, если уже уверены, что один из предыдущих был неверным? Тогда все последующие наши действия тоже ошибочны. Пока мы пытаемся выехать на трассу своей «реальной» жизни, жизнь проходит мимо нас.
Или, всё-таки, нет никакой разницы? В таком случае мы живём здесь и сейчас, независимо от всех вариантов, которые пролетели мимо. И та точка жизни, в которой ты сейчас находишься, и есть твоя истинная реальность, которую ты заслужил. Тогда любой выбор, который сделан, является верным? И наша дорога меняет своё направление хотя бы на долю градуса в каждый момент совершения выбора.
Наши желания вытекают из сделанных ранее выборов. Желания диктуют новый выбор. Что первично: выбор или желание? Возможностей всегда больше, чем желаний, но в русле наших желаний возможностей всегда меньше. Часто – ни одной. В таком случае, чтобы пользоваться большей свободой, нужно делать выбор вразрез с желаниями?
Мы – итог цепи выборов, сделанных ещё до нашего появления. Но даже появившись, мы продолжаем оставаться под постоянным влиянием чужих выборов.
Что есть свобода: быть собой, иметь возможность сохранять себя или постоянно меняться, теряя границы себя первоначального?
Что вообще такое свобода?
Большая часть этих вопросов останется без ответа. Но эта книга посвящена ответу на последний. А на остальные каждый может ответить для себя сам.
Свобода как пустота
Определив точно значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений.
Рене Декарт
О свободе говорили и писали давно и много. Эта тема интересна и философам, и «свободным художникам», и политикам, и обывателям. И хотя почти все понимают смысл понятия «свобода», выразить его ясно и определенно – не простая задача. Чаще свободу определяют через отсутствие чего-то: рабства, угнетения, давления. В конечном же итоге оказывается, что основной смысл свободы – отсутствие всего. Ведь что бы то ни было способно свободу ограничивать и только пустота является достаточно убедительным описанием свободного состояния бытия. А если погуглить картинки по запросу «свобода», то поиск выдаст массу изображений людей, стоящих на какой-нибудь горе с распростертыми руками, или даже подпрыгивающих, пытаясь изобразить полет. «Вольная птица» – эпитет более распространенный, чем «вольный зверь», а тем более какая-нибудь рыба, рептилия или трава. А выражение «вольный ветер» приходит на ум быстрее, чем «вольная вода» или «вольная земля» (впрочем, человек традиционно вступал с землей в особые отношения, не предполагающие существования по-настоящему «вольных земель»). Напрашивается вывод, что свобода предполагает возможность полета или хотя бы максимального контакта с воздушным пространством, которое само по себе является символом освобождения от материального, бренного, телесного. Когда мы говорим «свободное место», «свободное время», «свободная касса» и т. д., подразумеваются место/время/касса пустые, не занятые, но потенциально могущие быть заполненными.
Наиболее простое определение, вытекающее из сказанного: свобода – это пустота. Этот вывод мы получим без погружения в многословие умных книг – такое понимание свободы вытекает из самого языка и нашего опыта.
Конечно, любая пустота относительна. А физики могут сказать, что настоящей пустоты вообще не существует. Но ведь и материя «сама по себе» не известна, она бесконечно делима, а значит, бесконечно содержит в себе некие промежутки, которые можно назвать пустотой. Пустота существует и постигается лишь при наличии чего-то, непустоты, в сравнении с материальными объектами. При этом любая пустота окажется ограниченной конкретным уровнем ее проявления, как и материя, овеществляемая благодаря наличию пустоты рядом/вокруг, что позволяет быть отдельным объектам вообще. Материя обретает свое бытие через пустоту, а пустота выступает таковой, имея проявленные формы материи в себе/рядом с собой.
То, что Аристотель называл формой – это единство пустоты и материи. А главное свойство материи – движение – осуществимо только благодаря наличию пустоты, позволяющей перемещаться, в том числе и внутри других материальных объектов и живых организмов – как двигаются различные частицы, молекулы, электрические импульсы. То есть свобода – окно возможностей для движения, пространство выбора. Даже если этот выбор из одного варианта. Всегда, если движение осуществляется, для этого существует возможность – определенная пустота. Можно сказать также, что наличие в языке глаголов демонстрирует существование свободы в мире. Чем больше вы можете применить глаголов к себе, тем больше ваша свобода.
Один из популярных вариантов основного вопроса философии звучит так: «Что первично: материя или сознание». В свете сказанного его можно перефразировать: «Что первично: материя или пустота». Такая редакция основного вопроса освежает его, ведь «сознание» или «дух» – понятия слишком человеческие, а пустота/свобода выступают свойством физического мира. Но сама по себе первичность материи или сознания (духа) ничего для понимания бытия не дают. Это спор о том, что считать лошадью, а что телегой в мировых процессах. Лучше говорить об их единстве. Весь мир соткан из двух реальностей – энергоматериальной (ведь материя всегда включает энергию, что и позволяет ей меняться) и символической (информационной). Любая материя имеет какую-то форму, то есть несёт информацию, идею. И любая идея запечатлевается в материальном носителе.
Пустота, разлитая повсюду в мире – та самая абсолютная свобода, о которой лишь мечтают. Ее можно сравнить с бесконечностью в математике. Но если говорить о свободе субъектов и объектов, то никто не может иметь ничего бесконечного. Бесконечность можно помыслить, во многом благодаря этой идее живы представления о Боге, Абсолюте – сверхсуществе, обладающем этой абсолютной свободой. Остальным же сущим свобода открывается лишь в некоторой мере, в ограниченном показе. Здесь все как с прочими платоновскими эйдосами: есть идея стола (стольность), чашки (чашность) или слона (слонность), а в реальности же мы имеем дело с их копиями. Есть идеальная свобода, а все сущие обладают только той или иной мерой свободности. Но зато уместно говорить о духе свободы, бытующем среди живущих, влекущем нас к ускользающему горизонту. И о противостоящем ему духе рабства и страха, препятствующему движению, заставляющему окапываться в обретенных границах.
Четыре измерения свободы
Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношения бытия к небытию.
Ф. М. Достоевский
Синоним свободы – возможность, а возможность проявляется в движении. Возникает вопрос: где в принципе может происходить движение? На данный момент можно с точностью утверждать наличие двух всеобщих (физических) измерений свободы и еще двух, открытых для человека.
Первое измерение свободы – время. Конечно, время возникло вместе с пространством, поэтому не является старшей субстанцией. Теоретически время и пространство появились в результате «Большого взрыва», который в тот же момент создал и пустоту – возможность для движения. То есть мир возник вместе со свободой. И все изменения с тех пор протекают во времени и пространстве. А в результате изменений в мире могут появляться и новые измерения свободы.
Время является «великим уравнителем» – часики тикают для всех одинаково, Кронос пожирает всех детей. И хотя кому-то удается просуществовать дольше, с точки зрения вечности мы все – точки на карте времени. То есть имеем мизерную протяженность, чуть отличающуюся от нуля.
Если представить нашу жизнь как протяженность во времени, то возможности выбора будут сужаться подобно воронке: от рождения к смерти. Чем дольше мы живем, тем, без всяких сомнений, меньше времени у нас остается. А значит, и меньше возможностей реализации выбора. Смерть – точка, когда выбор исчезает совсем. Чем дольше мы живем, тем яснее нам и окружающим, кто мы есть, кем мы стали и кем уже не сможем стать.
Помимо общего, космического времени, существует и время каждого отдельно субъекта, выстраивающего свою жизнь в координатах этого времени. А это триллионы человекосекунд, минут, дней и лет. А сверх того – секунды, дни и годы мириад других существ и просто движущихся, бытийствующих объектов, вносящих свою лепту в развитие этого мира. Таким образом, время следует умножать на все количество объектов и субъектов, которые движутся в нем – от атома до метагалактики. Каждый элемент бытия обладает своим временем, которое характеризует его перемещения в пространстве или другие изменения, происходящие с этим элементом.
«В этом мире два времени. Есть механическое время и телесное время. Первое жёсткое и металлическое как массивный железный маятник, который раскачивается вперёд-назад, вперёд-назад, вперёд-назад. Второе же резвится словно рыбка в заливе. Первое неуклонно движется по предначертанному пути. Второе принимает решения на ходу» (Алан Лайтман).
Субъективное время создаёт множество времён в одном общем времени. Так, если десять человек взаимодействовали один час, то вместе они провели десять человеко-часов. И каждый из этих часов будет уникальным.
Вторым измерением свободы является пространство, оформленное в нашей картине мира как трехмерная реальность (современная физика допускает, что мерность может быть иной, а значит, пространство является более сложно организованной реальностью, с пока не доступными нам гранями свободы). Не зря лишением свободы называют заточение в замкнутое пространство, приковывание, связывание, отправку в ссылку.
Но кроме физического пространства существует еще топологическое или математическое. «Пространством в этом смысле называется множество объектов (точек), между которыми существует отношение непрерывности. В этом смысле можно говорить о семантическом пространстве, пространстве окрашенности, этическом пространстве, временнóм пространстве и даже пространстве физического пространства. С этой точки зрения пространство – универсальный язык моделирования» (Юрий Лотман). В этом контексте особыми пространствами являются все измерения свободы.
Пространственный аспект свободы начинается с возможности распоряжаться своим телом. Свобода человека, ограниченного физически, всегда будет меньшей, чем у того, кто легко перемещается, владеет двумя руками, острым глазом, чутким ухом и носом. Все эти инструменты служат восприятию и освоению пространства, возможности движения в нем. Далее пространственная свобода реализуется во владения территорией или жилищем, где ты находишься в полном праве и волен претендовать на уединение от внешних воздействий не только климата, насекомых или хищников, но и назойливого общества себе подобных.
Именно пространство мы прежде всего можем воспринимать как «пустое». И оцениваем не только протяженность, но и качественные характеристики пространства: комфортность температуры, перепад высоты, наличие воды и пищи, хищников. То есть пустота может быть не только количественной, но и качественной характеристикой, определяющей комфортность условий для жизни.
Яркой метафорой свободы считается полет – возможность передвижения не в одной плоскости, а фактически во всех направлениях. Для птиц воздушный океан – пространство их свободы, а для человека это лишь мечта о больших возможностях перемещения. Для рыб толща воды – их пространство свободы. Пространство свободы камня, если его что-то привело в движение, завершается у ближайшей преграды, в которую он упрется.
Анализ характеристик пространства относится к сфере деятельности третьего измерения свободы – сознания. Оно решает, как проложить путь, к чему идти и от чего бежать. Именно сознание воспринимает пространство понятным или непонятным, обжитым или заброшенным. И способно делать обжитое заброшенным, заброшенное обжитым, неудобное удобным, удобное неудобным, находить пищу и иные блага там, где их не было раньше или терять имевшиеся блага.
Скученность – один из признаков несвободы. Тем не менее, человек часто устремляется в гущу людей. Потому что себе подобные являются носителями сознаний, с которыми можно чем-то обменяться или чему-то научиться. Чем ближе к нам множество людей, тем больше они открывают для нас возможностей, хотя и отнимают пространство и время.
Сознание – самое человеческое и самое загадочное проявление свободы. Здесь движение выглядит как возможность что-то представить, помыслить ту или иную идею. Сознание создает копию мира – отражает всю данную в ощущениях свободу и несвободу окружающего бытия. Но сознание – не только зеркало, но и живая система, способная работать с полученной информацией, моделировать на ее основе особенную, психическую реальность. Эта реальность включает и действительное, и возможное, выстраивая вероятные и даже невероятные сценарии развития. Сознание позволяет двигаться (внутри себя) во времени и пространстве, преодолевая ограничения, которые накладывает окружающий мир. Если в реальности наше движение во времени непрерывно и последовательно, то в сознании мы можем этим движением управлять, переносясь в прошлое или будущее.
В каком-то смысле все происходящее с нами происходит у нас в сознании. И все самое ценное, что есть в жизни – это память и мечты. Память о лучших моментах пережитого и мечты о том, чтобы такие моменты наступали снова. Мы не можем расценивать как «событие» нечто, повторяющееся многократно. Единожды испытанный восторг по поводу чего-то нового, впечатлившего, не способен возвратиться в тех же формах. Поэтому для сознания как свежий воздух нужна свобода.
Человек может быть так увлечен внутренней свободой, захвачен движением в сознании, что теряет интерес к внешней реальности, к пространству и времени. Благодаря сознанию мы можем компенсировать недостачу всего остального. Не случайно так важны для нашего существования «рукотворные» реальности: искусство, литература, спорт, хобби. Они формируют новые грани действительности, расширяя границы человеческой свободы.
Свойство сознания, направленное на оценивание пространства, времени и всего, что оказалось рядом с оценщиком, являются зародышем четвертого измерения свободы – денег. Возможно кто-то удивится, что мы так просто перешли от «высоких материй» к бренному измерителю ценности. Но это факт: деньги – человеческое изобретение, способное аккумулировать свободу, вводить ее в обращение и обмен. Деньгами измеряется все, что может являться объектом желания, а значит, и выбора. Чем сильнее желание, чем большее количество желающих, тем выше цена. И наоборот.
Деньги служат не только обмену материальных ресурсов, но и свобод. Свобода субъекта меняется в зависимости от времени и места в пространстве. Да и ресурсы сознания трудно оценить и взвесить, исходя из неопределенности тех обстоятельств, в которых мы можем оказаться. Мы всегда имеем что-то больше необходимого, когда чего-то другого не хватает. Поэтому менять одни ресурсы (в том числе свободы) на другие – естественное стремление, улучшающее общее положение участников обмена.
Денежные потоки, словно реки и ручьи, в которые люди сливают свою свободу и обменивают ее на нужные блага. В деньги мы переплавляем наше время, которое продаем кому-то, в деньгах можно измерять пространство, которым мы пользуемся. Информационные продукты сознания также стали товаром, что существенно расширило финансовую сферу и общую капитализацию экономики. «Деньги – это чеканная свобода» (Ф. М. Достоевский).
Объекты или субъекты выбора – переменные в нашем поле свободы. Само же это поле определяется лишь четырьмя координатами: пространством, временем, воспринимающим сознанием и финансовыми/потребительскими возможностями. Можно предполагать, что существуют и другие измерения свободы. Но думаю, что я назвал все известные нам формы свободы. Все изменения (движения) нашего мира протекают именно в этих полях.
Можно ли считать дополнительным измерением свободы ресурсы тела? То есть наличие более длинных ног, более сильных рук, да и вообще двух рук, а не одной, обеих ног, острого слуха, глаза и прочих данных природой возможностей? Нельзя, так как физические возможности принадлежат миру энергоматерии, а не информации (духа). К свободе можно отнести результаты работы руки, ноги, как и сознание есть результат работы мозга. Но эти результаты не составляют особого измерения свободы, а принадлежат к достижениям субъекта в пространстве и времени. Несомненно, длинная рука лучше короткой, сильные ноги лучше слабых, но они только инструменты освоения двух первых измерений свободы.
Физическая ограниченность не всегда влечет ограниченность свободы. Человек слабый физически скорее будет уделять больше сил и времени на развитие сознания, чтобы достичь тех же (а то и больших) успехов, которые как бы сами собой валятся в руки сильному1. Вряд ли кто-то станет при наличии рук писать или рисовать ногами. Но люди, лишившиеся рук, учатся делать их работу ногами, порой достигая больших успехов. Лишенный какой-то части тела перераспределяет силы на другие части. Лишенный острого зрения скорее разовьет слух и т. п. Такое перераспределение – либо результат работы сознания, либо итог многочисленных физических тренировок – перемещений в пространстве и времени, в процессе которых тело приспосабливается к новой форме. Таким образом, над ресурсами тела всегда довлеют время, пространство и сознание. А при помощи денег можно превратить чужие тела и сознания в свои инструменты. Свобода сама ничего не делает, но способствует тому, чтобы все делалось.
Что касается бартера, праобраза денег, то предлагаемые к обмену товары или услуги не отвечают главному условию свободы – быть пустотой. Возможности натурального обмена сильно ограниченны, его участники могут погрязнуть в бесконечных обменных операциях, чтобы заполучить необходимое. Вещь, предлагаемая к обмену, всегда уникальна, а ее полезные качества могут теряться. Деньги же «пусты» по своему содержанию, их ценность только символическая. А в эпоху электронных платежей и криптовалют деньгам даже нет необходимости быть материальными.
Если первые два измерения свободы количественные, то два вторых – качественные. Сознание мало зависит от размера мозга, ценность (покупательная способность) денег мало зависит от их размера и даже от количества нулей на банкноте.
Наиболее количественное измерение свободы – время. Ведь одна секунда или один год ничем не отличаются от других. Их делают особенными только деятельность и взаимодействие субъектов и объектов.
Наиболее качественное из измерений свободы – деньги. Их задача и заключается в оценивании и измерении качества чего бы то ни было.