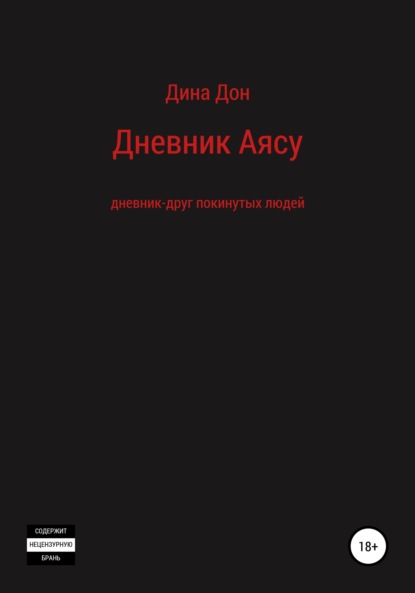Книга о детстве имеет автобиографический характер и переносит нас в ностальгическое советское прошлое - 70 - 80е годы.Небольшой поселок Горячегорск - маленькая зеленая вселенная, мир детских радостей, мечтаний, игр, приключений... Книга адресована широкому кругу читателей.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация