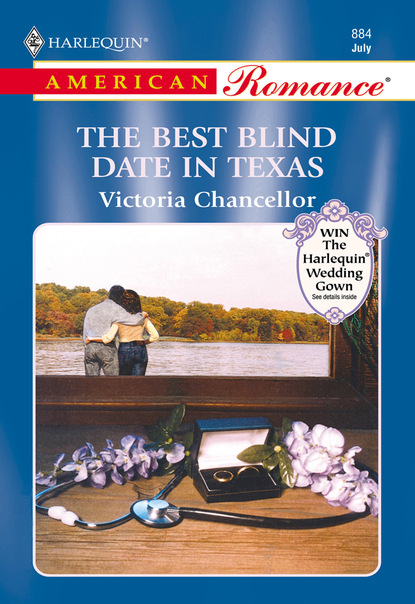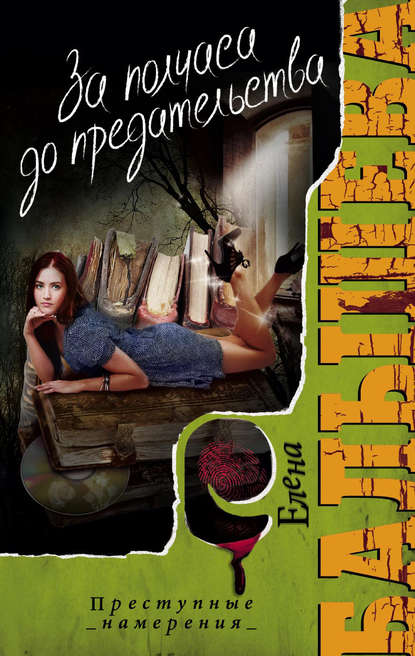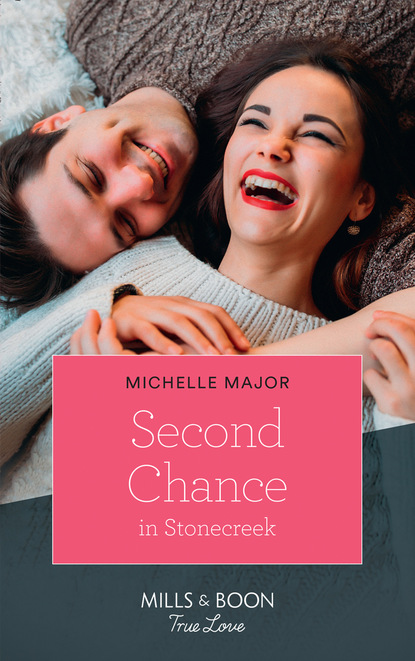- -
- 100%
- +

Тощие ветви ивы
Художественно-документальная история о любви, выстоявшей в аду Освенцима.
Ива.
Тянущая свои ветви к небу даже тогда, когда под корнями – лишь пепел. Хрупкая, гибкая, тонкая.
Она продолжает жить. Ива не ломается под ветром. Она склоняется. Она выживает. Даже когда весь мир вокруг погрузился во тьму. Эта история – о тех, кто, как ива, сохранил в себе свет.
От автора.
Эта книга родилась из боли и невозможности молчать о тех, чьи голоса почти затихли под тяжестью истории.
Из желания сохранить живое дыхание сердец и факты.
Я не была там, где цвела смерть, но я слышала молчаливый плач тех, кто прошёл через неё.
Станислава Лещинска стала для меня символом того, как маленький человек может удержать небо над рухнувшим миром.
Эта история – не только о войне. Она о любви, которая сильнее страха. О памяти, которую нельзя сжечь в печах. О жизни, которая всегда находит дорогу.
Верю: пока помним и любим – мы живём.
С благодарностью и трепетом,
Мария Лебедева
Посвящение.
Всем матерям, детям, врачам, узникам, всем, кто сохранил в себе человека в нечеловеческих условиях.Эта книга посвящается тем, кто выбрал любовь там, где царили страх и смерть.
Памяти тех, кто ушёл, и надежде для тех, кто живёт.
Пока любовь дышит в нас, пока память живёт в сердце, мы сильнее тьмы.
Память – это не бегство от реальности. Это единственное оружие, которое остаётся у тебя, когда реальность решила тебя уничтожить.
Часть I. Когда мир был цел
Глава 1. Детство и семья
Я родилась в сердцебиении Лодзи – в ритме фабричных гудков, сливавшихся на рассвете с криком петухов, в облаке угольной пыли, смешанной с ароматом свежеиспечённого хлеба из соседней пекарни. Наш дом стоял на самой границе, где каменные мостовые уступали место лугам, а запах города растворялся в дыхании влажной земли и полыни. Здесь, на этой окраине, мир был шире. За окнами тянулись бескрайние луга, где по утрам жаворонки взмывали так высоко, что их трель казалась песней самого неба – чистым, звенящим обещанием чуда.
Родители мои были простыми людьми, но в этой простоте таилась невероятная глубина.
Отец, Ян, – плотник, руки его, покрытые вечными ссадинами, были сильными и грубыми. Он возвращался с работы усталый и молчаливый, как камень. Но в этих руках всегда находилось место для меня. Он мог посадить на колени даже тогда, когда веки слипались, и большой, шершавый палец осторожно проводил по моей щеке. Никаких слов. Просто присутствие. Его любовь была молчаливой крепостью, фундаментом, на котором стоял наш дом.
Я тогда не знала, но, наверное, именно молчаливые любят сильнее. Они не тратят слова – они держат стены, пока ты учишься ходить. Их любовь не слышно, но когда она исчезает – дом звенит пустотой.
Он учил меня не словами, а делом: честности, когда возвращал лишнюю сдачу лавочнику; упорству, когда чинил старый забор под дождём; ответственности, когда каждое утро, ещё не умывшись, с трубкой в зубах, шёл проверять курятник: не убежал ли петух, не повадилась ли лиса. Иногда я слышала его сдавленное ругательство, если находил клочья перьев или пустое гнездо. Это был единственный звук его гнева – краткий, как выстрел, и тут же глушимый привычным спокойствием.
Мать, Хелена, была его полной противоположностью. Мягкая, как тесто, которое она месила, терпеливая, с глазами цвета спелой сливы – тёплыми и глубокими. Но в этих глазах жила и тихая грусть, тень усталости, что ложилась синевой под веки. Её руки, вечно в муке или земле, пахли тестом, ромашкой и потом. Она учила меня состраданию не поучениями, а примером. Если кто-то в нашем квартале заболевал – будь то старая вдова Ковальская или семья многодетного сапожника Якуба – она первой брала корзинку: тёплый хлеб, баночку варенья, горсть сушёных яблок. И шла.
Я следовала за ней, как тень, впитывая этот ритуал милосердия. Я видела, как она без лишних слов ставила кастрюлю на плиту в чужой кухне, меняла воду больному, вытирала лоб, тихо расспрашивала о самочувствии. Она учила меня видеть чужую боль – не отворачиваться от кашля за тонкой стеной, от слёз в чьих-то глазах на базаре, от пустого окна в доме, где некому зажечь свет.
– Стася, – говорила она тихо, когда мы возвращались домой, её лёгкая и сильная рука лежала на моём плече, – добро – это не слова. Это руки. Не бойся пачкать их, если кому-то нужна помощь.
С тех пор я часто думала: может, милосердие и правда – это не небесный свет, а просто руки в тесте. Просто кто-то встал, пошёл и сделал. Не из долга. А потому что в его сердце живёт любовь.
Утро в нашем доме начиналось задолго до рассвета, когда город ещё спал под звёздным покрывалом. Мама поднималась первой. Её шаги по скрипучим половицам – осторожные, почти неслышные – были для меня самым родным звуком на свете. Я лежала в своей узкой кровати, деля комнату с младшей сестрой Зоськой, и прислушивалась к симфонии пробуждения: глухой стук крышки сундука, шелест муки, высыпаемой в широкую миску, постукивание деревянной ложки о края, тихое напевание старой молитвы: «Под кровом Твоим…».
Запах дрожжей, смешиваясь с ароматом закипающего молока, медленно, как живое существо, наполнял дом, вытесняя ночную прохладу. Это был запах безопасности, заботы, нерушимого порядка.
Из двора уже доносились голоса – Сташек и Хенек.
Ещё сонные, но спорили всерьёз:
– Я первый пойду за водой! – упрямо тянул Сташек, натягивая штаны на босые ноги.
– Нет! Сегодня моя очередь! – возражал Хенек, уже хватая ведро.
Мама, помешивая кашу, только улыбалась в заиндевевшее окно:
– Идите оба. Вместе и веселее, и быстрее управитесь. И лёд с колодца сбейте.
Отец выходил последним, с потухшей трубкой. Его фигура в утреннем паре казалась частью ритуала. Иногда он бросал нам с Зоськой короткий кивок – и это было как благословение.
Зоська, ещё в полусне, зарывалась лицом в моё плечо:
– Заплети мне косу, Стася. Красивую, как у мамы.
Я вплетала в её волосы голубую ленточку – мамина особая, праздничная. Для Зоськи мама делала исключение.
На кухне становилось тесно, шумно и тепло. Братья наперебой рассказывали, кто быстрее донёс воду, Зоська сияла, показывая косу. А я прижимала к груди тёплую чашку и думала: если бы можно было сохранить это утро навсегда – я бы сделала всё, чтобы оно никогда не кончилось.
Много лет спустя, уже в тихом моём доме, я услышала за спиной голос:
– Мама… расскажи.
Я обернулась. Бронек стоял у двери, высокий, серьёзный, с тем самым упрямым прищуром, что был у отца. В руках он держал мой пустой блокнот.
– Ты ведь всё помнишь, правда? – он сказал это так, будто знал, что память – это тоже долг. – Запиши, мама. Чтобы мы знали. Чтобы помнили.
И я села за стол. Передо мной лежал чистый лист, а над ним – то самое утро в Лодзи, запах хлеба, пар от молока, Зоська с косой… и я поняла: да, я расскажу. Всё.
Глава 2. Город и соседи: Паутина жизни
Лодзь жила своей шумной, суетливой жизнью, и наш квартал был её маленьким отражением. Здесь все знали друг друга не только в лицо и по имени, но и по голосу, по походке, по привычкам. Здесь не было чужих. Весть о том, что у кого-то поднялась температура, у кого-то сломалась печная заслонка, а у кого-то пропала кошка, разносилась быстрее ветра, гулявшего между домами.
Мама была барометром квартала. Она первой замечала, если в окне пани Францишки не зажигался вовремя жёлтый огонёк лампы, или если из-под двери вдовы Ковалевской не доносился привычный запах жареного лука к ужину. Я смотрела, как она снова уходит – с корзинкой, с хлебом, с руками, пахнущими добром. И почему-то каждый раз, когда она уходила помогать чужим, я чувствовала щепотку вины за то, что хотела, чтобы осталась со мной. Я тогда не знала, что доброта – это не всегда тепло. Иногда – это холод твоей комнаты, когда мама снова выбрала кого-то другого.
– Стася, возьми корзинку, – говорила она тихим утром, когда я ещё протирала сонные глаза. – Сходим к тёте Ядвиге. У неё жар, а дети всё в отъезде. Я испекла хлеб, а ты нарежь сыру да положи пару яблок.
Мы шли по пустым, хрустящим от инея улочкам. Я несла тёплую, укутанную полотенцем корзинку, как святыню. За калиткой дома тёти Ядвиги всегда пахло мятой и дымом. На подоконнике сидела её старая, слепая кошка Мурка, поворачивая голову на звук наших шагов. Мама не стучала – просто входила, ставила кастрюлю с супом на плиту, подкладывала дрова в печь, поправляла подушку под горячей головой больной. Я помогала, как могла: подавала ложку, держала чашку с чаем, иногда просто сидела у кровати, глядя, как тени от пламени печи пляшут на закопчённых стенах.
– Не бойся, Стася, – шептала мама на обратном пути. – Видишь? Добро – это работа рук и сердца. Не бойся пачкать их. Это самая чистая работа на свете.
Рынок на Старом Месте просыпался раньше солнца. К площади мы подходили, когда воздух был ещё прозрачным, но уже густо замешанным на ароматах: булок из пекарни Берковича, терпких яблок, мокрой земли. Торговцы громко перекликались, выкладывая пирамиды овощей, корзины с яйцами, кувшины с парным молоком.
– Панна Станислава! – зазывал старый Юзек, подмигивая. – Только для вас, красавицы, самые сладкие яблочки!
Я смущённо улыбалась, прячась за мамину юбку. Пока мама приценивалась к картофелю, пробовала зерно на зуб, я слушала симфонию города: звонкий смех детей, крики спорящих торговцев, скрип телеги по булыжнику, далёкий колокол костёла Святого Иосифа.
По воскресеньям квартал преображался. Мама гладила крахмальную скатерть, братья чистили ботинки, отец поправлял воротник белой рубашки. Я заплетала Зоське косички с белыми бантами. На улице пахло росой и воском. Мы шли к костёлу, встречая соседей, и Зоська крепче сжимала мою руку, глядя на витражи.
Внутри было прохладно и тихо. Я рассматривала святых в сияющих одеждах, слушала, как скрипят половицы и как хор уносит под своды тревоги будней. После службы все выходили на площадь, обменивались новостями, дети с визгом носились вокруг клумб.
Иногда мама брала меня к портнихе, пани Хелене. Там пахло сукном, мелом и горячим утюгом. Пани Хелена, маленькая и юркая, ловко обмеряла маму, а я разглядывала катушки ниток, манекены, слушала стрекот машинки за перегородкой.
– Вот воротничок для будущей невесты, – показывала она мне кружево. – Когда вырастешь, сошью тебе самый красивый.
Вечерами женщины собирались у колодца. Дети носились, взрослые обсуждали урожай, цены, слухи из Варшавы. Кто-то выносил пирог, и мы ели его прямо на траве, слушая, как старшие вспоминают «времена до войны». Я чувствовала себя частью мира, прочного, как дуб, где чужая беда – общая, а радость делится на всех, как этот пирог.
Сейчас, сынок, когда я тебе это рассказываю, ты иногда улыбаешься – и я вижу, как за этой улыбкой ты пытаешься уловить запах булок Берковича, услышать скрип телеги, почувствовать вкус яблочного пирога у колодца.
Я хочу, чтобы, читая эти строки, ты слышал шаги мамы по инею, видел огонь в печи тёти Ядвиги и знал: это не просто мои воспоминания. Это – твои корни.
Глава 3. Уроки жизни: Школа и Учителя
Школа стала для меня окном в мир, который был шире нашего квартала и шумных улочек Лодзи. В классах пахло мелом, свежими дровами в печах и слегка – мокрыми шубами, развешанными в коридоре. Но больше всего я любила два урока – историю и польский.
Наш учитель истории, пан Пшибыльский, был строг, с седыми усами и пронзительным взглядом, который пробирал до костей. Он носил потертый, но безукоризненно чистый сюртук и говорил так, будто каждое слово он высекает на камне. Иногда казалось, что он видит не просто класс учеников, а маленькую армию будущего, от которой зависит судьба страны.
Однажды, после моего ответа о династии Ягеллонов, он задержал меня у доски.
– Станислава, – сказал он, глядя прямо в глаза, – ты хорошо пишешь. Не теряй этого дара. Даже маленькая правда, записанная честно, может согреть сердце в самую долгую зиму.
Я тогда покраснела и не смогла ничего сказать, но эти слова остались во мне навсегда.
А польский язык я полюбила благодаря пану Козловскому. Высокий, чуть сутулый, с густыми бровями и лёгкой хромотой, он входил в класс, будто приносил с собой целый мир книг. Говорили, что в юности он участвовал в забастовке и получил сабельный удар от жандарма.
У него была удивительная привычка: если кто-то ошибался, он подходил и тихо говорил:
– Ошибка – это не конец пути. Это начало поиска.
Он приносил на уроки старые книги, и, листая пожелтевшие страницы, показывал пятна воска:
– Это я читал при свече, когда был мальчишкой, – рассказывал он. – У нас дома не было электричества.
Однажды зимой он задал вопрос:
– Что для вас значит Родина?
Мы молчали. И он начал рассказывать – о том, как мать учила его читать стихи шёпотом, чтобы не услышали соседи, и как он носил запрещённые листовки под картошкой в корзинке. Когда он говорил, у него дрожали руки, а глаза становились глубокими, как старые книги.
После уроков я часто задерживалась помогать ему расставлять книги. В тишине пустой школы он говорил:
– Стася, верь в силу слова. Оно может согреть, как печь зимой. Защитить, как щит. А иногда и спасти жизнь.
Выпускное сочинение я писала именно для него. Тема была – надежда. Когда я зачитала текст, он долго смотрел в окно, а потом сказал:
– Если не перестанешь искать правду, ты сможешь многое.
Эти слова стали для меня внутренним компасом. Я поняла: в мире, где часто молчат, слово может быть единственным светом.
Глава 4. Ханка: нить, что связывает
Мы подружились в шесть лет – самым нелепым и, как выяснилось, судьбоносным образом.
Я увидела Ханку в саду строгого пана Вальтера. Она, рыжая и упрямая, тянулась к яблоку на высокой ветке, будто это было последнее яблоко на свете. Нос упрямо вздёрнут, губы поджаты. Я подбежала, подставила спину. Она забралась, ветка хрустнула, и мы обе рухнули в крапиву, выронив яблоко, но – визжа и хохоча.
В тот момент я поняла, что наш смех звучит одинаково. И что у нас будет много таких падений – с веток, с планов, с наивных надежд – но всегда вместе.
Ханка жила через три забора, в домике с зелёными, чуть покосившимися ставнями. Её мама пекла самые вкусные в Лодзи яблочные пироги: сочные, с хрустящей корочкой, посыпанной сахаром и каплей корицы. Когда пирог вынимали из печи, запах растекался по улице, как приглашение, от которого невозможно отказаться.
Мы бродили по полям, собирали ромашки, прятались от дождя в сарае с паутиной. Придумали свой шифр – переставляли буквы в словах. Послания прятали в дупле старой липы на перекрёстке. И однажды, вернувшись туда, нашли внутри тонкую катушку кружевной нити, оставленную неизвестно кем. Белая, с лёгким запахом лаванды, она показалась нам настоящим сокровищем.
– Будем хранить, – сказала Ханка. – Когда-нибудь из неё что-то свяжем, и это будет только наше.
Так и сделали. Нить осталась в липе, завернутая в лоскуток. Мы иногда доставали её, держали в ладонях, смеялись: «Вот увидишь, из неё выйдет чудо». И, наверное, так оно и было – чудо уже случалось каждый раз, когда мы встречались.
Дружба с Ханкой была как та нить: прочная, но мягкая. Она не рвалась от натяжения, а только крепче вплеталась в мою жизнь. Когда я болела, Ханка приходила с кружкой тёплого чая и читала вслух свои сказки. Когда умерла бабушка, она принесла букет лесных цветов и просто сидела рядом, молча. Когда мальчишки во дворе обзывали мою сестру Зоську, мы вместе встали перед ними, плечом к плечу.
С ней я училась, что настоящая близость – это не только смех на полях и секреты в дупле, но и умение молча держать руку друга, когда ему плохо.
Лето с Ханкой было как бесконечная ярмарка: запах сена, звон кузнечного молота, купание в пруду, пироги у колодца. Мы грезили: она о доме с вишнёвым садом и детьми, я – о том, что когда-нибудь стану врачом.
– А я буду к тебе приходить с пирогом, – говорила она, заплетая косу. – Даже если ты станешь такая важная, что забудешь, как меня зовут.
– Не забуду, – смеялась я. – Мы же связаны нитью.
Много лет спустя я открыла старую шкатулку. Среди пожелтевших писем, фотографий и засушенных ромашек лежала та самая катушка с кружевной нитью. Белоснежная, нетронутая временем. Я держала её в ладонях и вдруг услышала за спиной голос:
– Мам, а ты правда дружила с рыжей Ханкой? – спросил мой сын, заглянув через плечо. – Расскажи про неё.
Я улыбнулась. Села, усадила его рядом.
– Хорошо. Но это долгая история. Она начинается с яблока, падения в крапиву и одной волшебной нити…
Он устроился удобнее, а я поняла, что держу в руках не просто нить, а мост из моего детства в его будущее. И пока я рассказываю, мир Ханки живёт. А значит, и я – всё ещё там, на перекрёстке у липы.
Глава 5. Нить, что держит ветви
Вечера у Ханки дома всегда пахли чем-то особенным – яблочными пирогами её матери, сушёной мятой, ивовыми вениками, что стояли в углу для бани. В маленькой деревянной шкатулке, спрятанной под бельём, Ханка хранила свои сокровища: катушки тончайших нитей, крючки, иглы и кружево, аккуратно сложенное в белые стопки.
– Хорошее кружево, – говорила её мать, – как ветви ивы. Гибкое, но не ломается. Если беречь, переживёт даже бурю.
Однажды она достала катушку почти прозрачной нити – тонкой, как паутинка на утренней траве, и протянула мне.
– Для воротничка, – пояснила. – На мою свадьбу.
Я взяла её в руки. Лёгкая. Невесомая. Но в ней была сила – как в ивовой ветви, что гнётся под ветром, но всегда возвращается к свету. Я тогда подумала: может, и дружба так же устроена? Хрупкая на вид, но способная удержать в самую страшную бурю.
Ханка пыталась учить меня кружевоплетению, но узлы получались кривыми, и мы смеялись, пока её мать не шептала строго: «Не растрёпайте нить, девчонки!».
Я не знала, что однажды эта нить вернётся в мою жизнь в самый неожиданный момент.
Много лет спустя, в тихом свете лампы, я открыла ту шкатулку. Нить потемнела, но была цела – ни одного разрыва. Я провела по ней пальцами, и в голове ожили зимние вечера: печка, запах яблок, смех, и мягкое шелестение ивовых веток за окном.
– Мама, а зачем тебе эта старая нитка? – спросил мой сын, заглянув через плечо.
– Потому что всё самое ценное в жизни – тонкое, – ответила я. – Но оно держится, если его беречь. Как ива держит свои ветви в любой буре.
Он кивнул, не задавая лишних вопросов, и я подумала: придёт день, и он сам почувствует, как тонкая нить может удержать целый мир.
Теперь, оглядываясь назад, я вижу: моя жизнь всегда тянулась как эта нить – от дома детства до лагеря, от тихого смеха у печки до глухой тишины за колючей проволокой. И даже там, где казалось, всё сломано, где ветви ивы обмерзли и стали ломкими, – нить всё равно связывала меня с теми, кого я любила.
Глава 6. Первые Тени: Смерть, Страх и Мужество
Первая настоящая встреча со смертью пришла в наш двор тихим, морозным утром. Зима в тот год выдалась особенно долгой и жестокой. Лёд, словно панцирь, сковал улицы Лодзи, а небо стало низким, свинцовым. Даже голуби, которых старая пани Францишка любила подкармливать на своём подоконнике, сидели, нахохлившись, серыми комками, не в силах взлететь.
Пани Францишка чахла давно – тонкая, как высохшая ветка ивы, но упрямая, она выходила каждый вечер с горсткой хлебных крошек, словно выполняла обет. Мы с мамой часто смеялись, что её силу держит именно эта привычка – кормить тех, кто слабее.
В то утро я проснулась от непривычной тишины. Не было ни её кашля за стеной, ни шарканья по двору. Сквозь заиндевевшее окно я увидела тёмные силуэты женщин в траурных платках. Снег под их ногами был истоптан и утрамбован, как ткань, по которой много раз прошла игла.
Мама, обычно спокойная, оделась молча. Её ладонь, сжимающая мою руку, была влажной и холодной. Я вдруг почувствовала – взрослые тоже могут бояться.
В доме пани Францишки пахло воском оплывающих свечей, густым, сладковатым ладаном и чем-то ещё – острым, лекарственным, от чего щипало глаза. Она лежала на столе, покрытая белой простынёй, до самого подбородка. Вокруг горели свечи, пламя которых дрожало, отбрасывая на стены длинные тени, похожие на ветви ивы, качающейся на ветру.
Взрослые говорили шёпотом, кто-то молился, перебирая чётки. Я стояла у двери, прижимаясь к маминому боку. Всё казалось чужим и искажённым, как во сне. Я думала: неужели так просто исчезает человек? Но потом почувствовала – нет, что-то осталось. Осталось в запахе хлеба на её подоконнике, в её тёплом «dzień dobry» во дворе, в том, как она клала ладонь мне на макушку, проходя мимо.
– Мама… почему все плачут? – прошептала я, боясь нарушить тишину. – Почему она лежит так?
Мама присела на корточки, обняла меня, и я впервые увидела, как по её щеке скатилась слеза.
– Смерть, Стася, – это не конец. Это возвращение домой. Туда, где нет боли. Мы все встретимся снова – на другом берегу реки. Помни это.
Её слова были как камень, брошенный в воду: тяжёлые, холодные. Но я чувствовала – круги от этого камня останутся во мне надолго.
На похороны мы несли пани Францишке скромные гвоздики и веточки можжевельника, завернутые в старый маминый платок с кружевным краем. Этот край был связан её матерью ещё до войны. Кружево напоминало тонкую нить, которая соединяет живых с теми, кто ушёл.
Снег скрипел под ногами, воздух был прозрачным, звенящим. Шествие шло молча, и казалось, даже небо опустилось ниже. Мужчины не скрывали слёз, женщины крепче прижимали к себе детей.
После похорон мама долго сидела у окна, глядя на пустой подоконник пани Францишки. Я подошла и сама взяла её руку – крепко, как она держала мою утром. Мы молчали. Ива за окном тихо качала ветвями, стряхивая на снег мелкие льдинки.
В тот день я поняла: даже самые сильные люди могут быть слабыми, и в этом нет стыда. Главное – быть рядом. Держать ту самую тонкую нить, чтобы она не порвалась.
Глава 7. Юность. Годы надежд: Дрожь на пороге
Юность – это не просто возраст. Это теплая, трепетная дрожь под сердцем, когда каждое утро несет обещание перемен, а вечером накатывает сладкая, но тревожная усталость от нераскрытых возможностей. После окончания школы я ощущала себя странницей на перепутье. Дом – якорь, пахнущий теплом печи, дрожжами и влажной землей после дождя – тянул к себе уютной тяжестью привычных обязанностей. Но за его порогом гудел огромный мир, манящий неясными перспективами и тревожным шепотом: «Куда?»
Я помогала матери: месила упругое тесто, ощущая его живое тепло под ладонями; резала сочные, кисло-сладкие яблоки для пирогов; следила, чтобы Зоська не запуталась в косичках, а братья не устроили очередную войну из-за ведра у колодца. Но к вечеру, когда дом затихал, наступало мое время. Как будто невидимая нить тянула меня к старой ученической тетради, заведенной еще по совету пана Пшибыльского. Она превратилась в мой тайный сад. Я вписывала туда стихи, истории, наблюдения за соседями, сны о будущем. Каждая строчка – шаг по невидимой тропинке к чему-то большему, чему я еще не могла дать имя. Я ловила на себе взгляд матери. Она не спрашивала, но в ее молчаливом одобрении, в том, как она аккуратно гладила мою скромную блузку или подкладывала лишнюю ложку меда в мой чай, читалось понимание. Она чувствовала мое смятение и доверяла мне найти свой путь.
Однажды на балу у пани Ядвиги, куда меня взяли «для приличия» помочь с угощением, я встретила Бронислава Лещинского. Он стоял у стены, чуть неуклюжий в праздничном костюме, смотрел на кружащиеся пары. Его пригласили как мастера – он чинил в доме старинный буфет. Мы разговорились случайно, когда я несла поднос с лимонадом, а он поправлял отставшую планку на дверце. Говорил о столярном деле тихо, но с горящими глазами, о том, как дерево оживает под резцом, о мечте открыть свою мастерскую. Его руки, сильные и умелые, были покрыты тонкими царапинами и пятнами морилки. В его взгляде не было заигрывания, только искренний интерес и какая-то надежная твердость. «Вы, панна Стася, кажется, знаете весь квартал по именам, – улыбнулся он. – Как будто вы здесь самый главный комендант».
«Просто люблю слушать истории, – ответила я, чувствуя, как теплеют щеки. – Каждый человек – как книга. Иногда грустная, иногда смешная».
Зоська, подбежавшая за кусочком пирога, прошептала мне потом на ухо: «Он в тебя влюблен, Стася! Смотри, как он на тебя смотрит!»