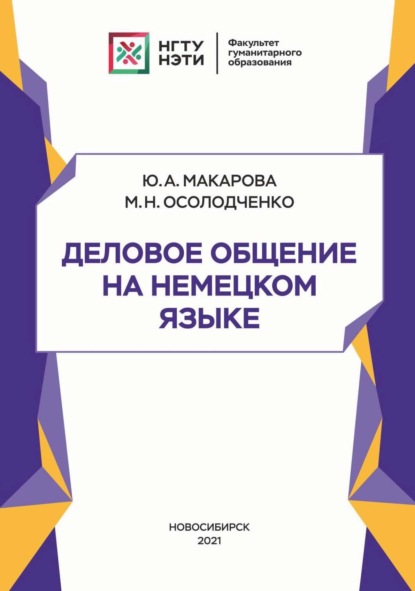- -
- 100%
- +
В последующие недели Бронислав стал частым гостем в нашем доме. Он чинил шатающийся стол, помогал отцу с сараем, терпеливо объяснял братьям тонкости работы рубанком. С Зоськой он разговаривал серьезно, как со взрослой, что ей невероятно льстило. С мамой обсуждал рецепты хлеба, с отцом – политику. Его внимание ко мне было ненавязчивым, почти застенчивым: он мог незаметно подвинуть тяжелый стул, подать платок, если я чихала от муки, или просто спросить мое мнение о прочитанной в газете новости. Было в нем что-то несуетное, основательное, как дубовый брус, который он так любил обрабатывать.
В день моего восемнадцатилетия он пришел с небольшим свертком. Внутри лежала серебряная брошь в виде колоска пшеницы. «Чтобы помнила свои корни, панна Стася, – сказал он просто. – И куда бы вас ни занесла судьба». Зоська ахнула от восторга и тут же потребовала заплести мне волосы «особо красиво».
Наше обручение прошло тихо, в семейном кругу. Мама испекла каравай, отец благословил нас иконой. Бронислав смотрел мне в глаза, когда надевал тонкое колечко на палец:
– Я построю для нас дом, полный света, Стася. Обещаю.
Первые годы замужества пахли свежей стружкой, горячим хлебом и молодой любовью. Мы умели радоваться малому – тёплому чаю в морозный вечер, мягкой перине, письму от мамы. Я вечерами сидела у окна, штопала рубахи, а за стеклом шуршал снег, и Бронислав стучал молотком в сарае, мастеря что-то «на будущее». Внутри росло ощущение, что всё только начинается, что впереди – целый мир, который мы построим вместе.
Глава 8. Первые годы замужества: дом, который пах любовью
Первые годы замужества были как ранняя весна – ещё свежо, ещё не всё устроено, но в воздухе уже витает предвкушение. Наша первая квартира – всего две комнаты в старом доме неподалёку от фабрики, где он работал. Скрип половиц и запах варёного лука от соседей сверху стал частью нашего утреннего пейзажа.
Мы оба выросли в труде, поэтому уют создавали не покупками, а руками. Бронислав сам смастерил крепкий стол из досок, которые достались ему за переработку на фабрике. Я сшила занавески из ситца, подаренного мамой, и от этой ткани, когда на неё падал солнечный свет, казалось, что в комнату входит поле ромашек. Вечерами, при свете керосиновой лампы, мы сидели вместе: он рассказывал о заказах на фабрике, о том, как мастер Якуб опять перепутал чертежи, а я – о соседях, о книжках, о том, как маленький сын моей соседки вывалился из корыта, но не заплакал, а смеялся до икоты.
Тогда казалось, что наш мир – как крепко сшитая ткань: нить к нити, стежок к стежку. Мы оба умели радоваться простому: чашке горячего молока, выстиранным на морозе простыням, запаху свежеиспечённого хлеба. Иногда по вечерам я шила крошечные рубашечки из мягкого холста и слушала, как во дворе Бронислав возится с деревом, подгоняя доски для колыбели. Запах свежей стружки впитывался в стены, в подушки, даже в мои волосы, и казалось, что сама ива за окном стала шептать тише, бережнее – чтобы не разбудить ту маленькую жизнь, которая уже толкалась во мне.
Рождение нашего первенца, Бронека, в холодную зиму 1917 года стало первым громким аккордом в нашей молодой семейной симфонии. Мороз рисовал на окнах сложные ледяные сады, а в комнате стоял запах хлеба и укропного отвара. Я помню, как лежала, прижимая к груди тёплый комочек, и весь остальной мир исчез. Только мы втроём. Бронислав вошёл тихо, словно боялся потревожить чудо, сел рядом, и его большая шершавая ладонь легла на мою и на головку сына.
– Стася… спасибо тебе… Пусть у нас всё будет хорошо.
В тот момент мне казалось, что и правда будет.
В 1919 году у нас родилась Сильвия – девочка с голоском серебряного колокольчика. С её появлением в доме стало светлее, мягче, как будто в утреннем солнце вдруг заиграл золотистый отблеск. Мама, качая её колыбель, шептала:
– Теперь у вас есть свой ангел.
Тогда же, глядя на спящих детей, я впервые сказала Брониславу:
– Хочу стать акушеркой. Помогать женщинам пройти этот путь.
Он задумался, потом просто кивнул:
– Если это твой путь – иди. Я помогу.
Эти слова стали моим пропуском в новую жизнь. Когда Сильвия подросла, я записалась на курсы акушерок. Жизнь превратилась в бег с препятствиями: учёба, малыши, хозяйство. Я засыпала над конспектами, стирала пелёнки ночью, учила латинские названия трав, качая колыбель ногой. Иногда я думала, что упаду, но тогда Бронислав молча ставил передо мной кружку горячего чая и говорил:
– Ты сильнее, чем думаешь, Стася.
В 1922 году я получила диплом. В тот же год родился наш третий ребёнок – Сташек, настоящий ураган в пелёнках. Казалось, он появился на свет уже бегом – такой был шустрый и неугомонный. А через год в нашу семью пришёл Хенек – озорник с глазами-искринками, который всегда находил, как превратить день в приключение.
Теперь наш дом гудел, как растревоженный улей. Но это был улей, полный мёда – сладкого, густого, согревающего сердце.
Глава 9. Семейная жизнь. Порог взрослой судьбы: Стены, пропитанные счастьем
К концу 20‑х наш дом уже стоял – как исполненное обещание. Его Бронислав растил, как дерево: год за годом, доска к доске, шип к пазу. Сначала – сруб и крыша над двумя комнатами, чтобы укрыть нас от дождя и первых детских простуд. Потом – пристройка кухни, чтобы хлебу было где подниматься, и веранда, на которую по вечерам вытекал тёплый свет лампы. В его ладонях каждая планка знала своё место; он разговаривал с деревом так же внимательно, как со мной.
Иву за калиткой он пересадил сам – тоненький прут из овражка. «Пусть растёт вместе с нами», – сказал, вкапывая колышек и подвязывая стебель шнуром от мешка с мукой. К 1929‑му её ветви уже касались земли, шептались с ветром и шили нашей жизни зелёную штору: спрячешься – и будто снова девочка.
Дом был не «просторный» – он был точный. Столько пространства, сколько нужно. Светлая кухня с большим столом, вытертым до шёлка; комната детей с полкой для книг; небольшая кладовка, где я устроила свой «уголок акушерки»: стеклянные баночки с травами, кипячёные пелёнки, жгуты, ленты, аккуратно перевязанные льняной ниткой. На стене – маленький образок Божьей Матери, подаренный мамой, и рядом – гвоздик, на который я вешала сумку перед тем, как бежать к роженице.
Бронислав не переставал «достраивать». Он то менял шаг стропил – «чтобы зима нам не свистела под крышей», – то выводил ровнее наличники, то придумывал для калитки новую защёлку, которая щёлкала тихо, как швейная игла. По воскресеньям мы «обживали» дом: я подрубала занавески, Сильвия подбирала ленты под их цвет, Бронек подписывал спинки книжек чернилами, а Сташек с Хеньком строили под печью «железную дорогу» из катушек и пуговиц.
Бронек уже ходил в школу. Он рос вдумчивым, с тем «отцовским» прищуром, от которого во мне теплело. Мог часами смотреть, как Бронислав строгает рейсмусом – тонкая стружка свивается белёсой лентой, и он спрашивал:
– Папа, а у дерева правда есть сердцевина, как у человека?
– Есть, – отвечал тот, не отрываясь. – И если беречь, дом стоит долго.
Иногда он сопровождал меня в амбулаторию: несет корзинку, серьёзный, как приказчик, и шепчет: «Мама, а правда, что акушерка спасает сразу две жизни?» Я кивала. Он запоминал.
Сильвия была нашим тёплым лучом. Она знала, где у кого трещина на коленке, кому к ужину яблоко, а кому – шёпотом сказку. В её руках вещи жили дольше: лента не мялась, пуговица не отрывалась, хлеб резался ровными ломтями, будто сам хотел быть красивым.
Сташек был вихрем. Он измерял двор шагами, крышу – взглядами, а иву – карабканьем. «Я не упаду, мама. Дерево меня держит», – говорил, зависнув на нижней ветви, и мне казалось: правда держит – ива уже знала его вес. Он умел «помогать» так, что потом помогать приходилось втрое: то принесёт охапку сырых веток «растопить поживее», засыпав пол снегом, то молоточком «подлечит» табурет до хрипоты гвоздей.
Хенек – мальчишка с искрой и карманами, набитыми тайнами. Однажды пропал ключ от чулана. Искали полдня. Нашёлся в буханке:
– Я спрятал в самое надёжное место, – гордо сказал он. – Кто его тут найдёт?
– Разве что голод, – вздохнула я, и мы смеялись все вместе.
По вечерам дом звучал. Газета, которую Бронислав читал вслух, скрип гусиного пера в тетради Бронека, шёпот Сильвии над пяльцами, нетерпеливый топот Сташека в сенях и сонный вздох Хеньки на моей коленке. А поверх всего – тёплый гул печи, который связывал звуки в одну музыку. В эти часы Бронислав иногда брал мою руку – шершавую от мыла и бинтов:
– Ты всё успеваешь, Стася. Дом, дети, чужие матери. Как ты это делаешь?
– По ниточке, – отвечала я. – Как ты наш дом: стежок к стежку.
Он кивал. Мы понимали друг друга без больших слов.
В саду всё тоже «достраивалось»: грядки становились ровнее, малина – гуще, осенью мы вместе натягивали на неё шпагаты, а ива, взрослея, делала наш двор камернее – как сфера, где звучит только свой голос. Сильвия качала под ней кукольную коляску, пела тихо, чтобы не будить младших, и мне казалось, что дом дышит в такт её мелодии.
Иногда, когда дети затихали, я выходила на крыльцо. Ветви ивы касались земли и будто гладили её – так гладят больного по лбу. В шелесте листьев слышался привычный «домашний» шёпот – и едва заметный, как дальний раскат, холодок: звук большого мира за калиткой. Я списывала это на усталость, на ветер, бегущий с фабричных труб. Но иногда думала: ива всегда знает раньше нас, откуда подует.
А дома было светло. На полке – банки с компотами, в сундуке – крахмальная скатерть, на гвоздике – моя сумка. И тёплая ладонь Бронислава на моей спине, когда я, прикрыв глаза, опускаюсь на скамью. Дом стоял, как стояли его слова в день обручения: «Я построю для нас дом, полный света». Он сдержал обещание – и мы наполняли этот свет собой: смехом, хлебом, детской беготнёй, бесконечной заботой.
Если прислушаться очень тихо, можно было уловить, как у самого потолка стучат маленькие сердца – четыре разных ритма и один общий такт. Наш дом был ответом на обещание и доказательством того, что слово, положенное на фундамент, держит лучше любого камня.
Глава 10. Доченька Сильвия: Женская нежность и тихий свет
Сильвка была тонкой нитью, что соединяла в доме всех нас. После шумных игр братьев, после Хенькиных «открытий» и Сташкиных подвигов, она умела вернуть тишину. Не тишину пустоты – а тишину тепла, в которой можно перевести дух и вспомнить, что ты дома.
Она часто была рядом со мной на кухне. Её маленькие руки уже умели ловко нарезать хлеб, подать ложку, подмести крошки. Иногда я нарочно оставляла для неё «работу» – перемешать тесто или выбрать ровные яблоки для пирога, – и видела, как серьёзно она к этому относилась.
Однажды, после трудного дня, когда я вернулась с двух ночных родов, усталая до дрожи в коленях, она тихо принесла мне чашку горячего молока и плед. Села рядом, не задавая вопросов. Просто была. И этого «просто быть» хватало, чтобы в душе стало легче.
Сильвка умела защищать и в малом. Когда Хенек в приступе азарта опрокинул миску с супом, она не стала его ругать, а принесла тряпку и помогла мне убрать, шёпотом сказав:
– Мама, не сердись на него. Он ведь не нарочно.
Иногда мы с ней выходили во двор вечером, когда мальчишки уже спали, и просто сидели на лавке. Она говорила о школе, о подружках, о том, что хочет научиться шить «как ты, мама». И однажды призналась:
– Когда я вырасту, я тоже буду помогать мамам и детям. Чтобы у всех всё было хорошо.
Я смотрела на её лицо, освещённое луной, и видела в нём отголоски своего детства. Ту же девочку, что когда-то держала маму за руку, помогала соседям, мечтала о добрых делах. Круг замыкался.
В Сильвии было то, что не купишь и не выучишь по книгам: врождённое умение беречь. И я знала, что именно эта тихая, женская сила будет для неё и даром, и защитой, когда жизнь принесёт свои испытания.
Глава11. Родительские заботы: Дом среди людей
Жизнь с четырьмя детьми – это, конечно, шум и хлопоты, но за стенами нашего дома тоже бурлила своя жизнь. И я всё чаще ловила себя на мысли, что мы не только семья, но и маленькая часть большого, сложного механизма под названием «город».
Наши соседи были как родня – со всеми плюсами и минусами родственных отношений. Справа жила госпожа Левандовская, вдова железнодорожника. Она знала всё, что происходит в округе, и делилась этим знанием щедро, как хлебом. «Стася, – шептала она на крыльце, – вон тот новый лавочник, говорят, не чист на руку…» Я кивала, слушая, но потом ловила себя на том, что всё равно покупаю у него соль – потому что ближе, а с моими ночными вызовами иногда некогда бежать в центр.
Слева – семья Ковальских. Там вечно пахло жареным луком и свежей краской. Пан Ковальский подрабатывал плотником и любил заглянуть к Брониславу «на минутку» – обсудить то калитку, то крышу, а заодно и политику. Эти разговоры часто заканчивались тяжёлым молчанием. Мужчины отводили глаза, говорили о погоде. Я видела, как в их взгляде появляется настороженность – ещё не страх, но уже предчувствие, что мир меняется.
Моя работа в эти годы стала почти неотделима от жизни всего квартала. Я принимала роды у жены сапожника, у молодой учительницы, у двоюродной сестры нашего лавочника. Иногда приходилось идти через весь город в дождь, по тёмным улицам, с фонарём в руке и с сумкой, в которой звенели металлические щипцы и стеклянные ампулы. Каждое такое путешествие было как отдельная история – с лаем собак, со скрипом мостков через лужи, с редкими встречами людей, возвращающихся с работы. Я знала: за многими дверями ждут моего стука не только роженицы, но и люди, которые просто хотят, чтобы их кто-то выслушал.
Дети в это время росли в тесной связи с соседской ребятнёй. Сильвия умела ладить со всеми, её звали «маленькой мамой» за умение утихомирить любую ссору. Бронек же уже начинал помогать отцу по-настоящему – носил доски, точил инструменты. Сташек и Хенек иногда попадали в переделки, но теперь это были уже «уличные приключения» – вернулись поздно, потому что «помогали» нести дрова старому пану Якубу, или замазали все пальцы краской, раскрашивая старый забор у костёла.
Вечерами, когда дети спали, я сидела у окна и смотрела на освещённые жёлтым светом окна соседей. Там шли свои жизни – кто-то читал газету, кто-то штопал носки, кто-то тихо спорил. И в этой пестрой, иногда шумной, иногда тяжёлой картине я чувствовала особенную ценность – мы были частью чего-то большего, чем просто наша семья.
Но иногда, даже среди смеха и разговоров за длинным столом, я ловила на себе взгляд Бронислава – внимательный, чуть тревожный. Ива за окном тихо шуршала, и мне казалось: она слышит чуть больше, чем мы, и уже знает, что впереди ждёт время, когда люди будут смотреть на друг друга иначе.
Пока же мы пили чай, делили яблочный пирог и говорили о делах. Но глубоко внутри я уже берегла эти вечера – на случай, если однажды их станет меньше.
Глава 12. Трещины в мире: Предчувствие бури. Запах страха
К концу тридцатых годов знакомый мир Лодзи начал покрываться трещинами. Сначала – едва заметными, как паутинка на зимнем стекле. Потом – глубже, зловещее. Словно кто-то невидимый тихо стучал в дверь, и этот стук слышали все, но никто не решался открыть.
В лавке у пани Ванды, где всегда царил привычный гул – смех, споры, звон монет, – появилась новая, тревожная нота. Женщины говорили тише обычного, оглядывались, прежде чем заговорить о главном.
– Сахар опять подорожал, – вздыхала пани Ванда, взвешивая крохотный кулёк. – Скоро и вовсе не будет, сметут всё впрок.
– А мыло? – вставляла пани Ядвига. – Муж сказал: на Петрковской всё сметают мешками. Как в последний раз.
– Всё из-за этих новостей, – почти шёпотом добавляла пани Зофья. – В Германии мобилизация… говорят, у границы уже идут учения.
Я слушала их, прижимая к груди холщовую сумку, и ощущала, как под ложечкой оседает камень.
Дома тревогу чувствовали все.
Бронек, уже взрослый, садился к радио и слушал новости с хмурым лицом. Сильвка обнимала меня чаще, чем обычно. Сташек спорил с отцом о политике, прикрывая бравадой растущий страх. Хенек просто спрашивал:
– Правда, что война – это страшно?
Но именно Бронек в эти годы стал для меня отдельной тревогой. Днём он работал на фабрике, по вечерам учился, а ночью… исчезал. Возвращался поздно, с запахом сырого подвала и угольной пыли. В карманах его пальто я находила обрывки тонкой, газетной бумаги. Он отмахивался:
– Мама, это так… для работы.
Позже я узнала правду: он вместе с друзьями распространял листовки против новых громких организаций, которые называли себя патриотами, а на деле несли ненависть. Он говорил тихо, почти шёпотом:
– Если молчать, зло вырастет. Оно уже шагает по Европе. Мы должны быть готовы.
Я слушала его и понимала – он уже мужчина, и мне не удержать его в тёплой кухне, среди запаха хлеба и ромашки.
В эти же месяцы Бронислав вернулся с фабрики мрачнее тучи:
– Уволили пана Левицкого. За то, что еврей. Двадцать лет работал… – Он не договорил, а я почувствовала, что трещины в нашем мире становятся пропастями.
Ночью я долго сидела у окна. В руках был мамин старый фартук – как талисман. В тишине дома слышался смех Хенека во сне, шорох Сильвии, переворачивающейся в постели, и негромкий разговор Бронека и Сташека за стеной.
Мне снился сад, опутанный колючей проволокой, и чёрные птицы с железными крестами на крыльях, закрывающие солнце. А утром я знала – буря близко. И всё, что мы построили, придётся защищать не только хлебом и любовью.
Но даже в этом сгущающемся мраке были люди, которые не отворачивались.
Они поднимали глаза, когда другие опускали, протягивали руки, когда было безопаснее отвернуться.
Я ещё не знала, что скоро и нам с Брониславом придётся выбирать – между страхом и совестью.
Пока мы жили обычными заботами, но в сердце уже прорастало странное, упорное чувство: нельзя пройти мимо, если кто-то стучит в твою дверь.
Даже если за этим стуком – беда.
ЧАСТЬ II. Когда мир раскололся
Глава 13. Тень свастики над Лодзью
Я ворвалась в утро на ватных, немного заплетающихся ногах. Каменные плиты двора под ногами казались непривычно мягкими после ночи, проведенной на ногах, где на свет появились две крошечные девочки, кричавшие так, будто отвоевывали свое право на жизнь. Мир звучал чуть приглушеннее. На моем халате – пятна застарелой крови, крошки слипшейся муки от вчерашнего пирога и темный след от усталой руки, которой я бессчетно раз протирала потный лоб в коротких передышках между схватками. Запах родов, сладковато-металлический, все еще витал вокруг меня.
Открыв дверь своим легким, но уже привычным рывком, я ощутила сразу всё: щекочущий нос аромат только что испечённой булки, горьковатую струю свежего кофе и слепящее, ещё холодное осеннее солнце, падавшее жёлтым квадратом на ворох детских игрушек у порога – деревянного коня и куклу с одним стеклянным глазком. Этот квадрат света на полу, каждый день сдвигающийся по мере восхода, был для меня вечным маяком дома.
Кухня дышала теплом и неспешным порядком. Бронислав, в простом, вытертом до белизны хлопковом фартуке, стоял у стола и неторопливо месил тесто. Его большие, сильные руки двигались сосредоточенно и уверенно – большие пальцы на миг замирали, погружаясь в глубину мягкой массы, будто ища там ответы, потом вновь начинали аккуратное, ритмичное вымешивание. Казалось, из каждой буханки он лепил не просто хлеб, а новое, особое обещание спокойствия, устойчивости в этом качающемся мире.
Мир этой кухни был наполнен мелкими деталями простой нежности: тонкие полоски света продирались сквозь кружевные занавески, отбрасывая на стену причудливый узор, словно отпечатанный уголком скатерти. В углу на плите бормотал, готовясь к кипению, старый эмалированный чайник. А в центре стола, на моем привычном месте, уже ждала большая фаянсовая чашка, парящая над блюдцем, и рядом – толстый ломоть еще теплого хлеба, щедро облитый прозрачным, как мед, рассветом.
Я опустилась на табурет с тихим стоном облегчения – усталая до дрожи в коленях, но спокойная внутри. Я позволила этому утру коснуться моего сердца: как будто весь мир, круглый, благоухающий хлебом и любовью, построен ради таких вот островков тишины и тепла. Я всматривалась в профиль мужа: мягкая складка у глаза от неслышной улыбки, привычная тяжесть плеч, несущих груз нашей общей жизни.
– Всё хорошо? – спросил Бронислав негромко, не оборачиваясь, но буквально изливая заботу каждым движением, каждым замесом теста. Его голос был низким и успокаивающим, как гул печи.
– Две девочки, Бронек, – ответила я, мой голос слегка дрогнул от усталости и счастья. Я отломила кусочек хлеба, обмакнула его в золотистый жир на тарелке и спрятала зарождающуюся улыбку в его теплой мякоти. – Обе живы. Обе цепляются за жизнь маленькими кулачками. Слабенькие, но кричали так, что стекла дрожали. Иногда, кажется, этот старый дом держится только на таких вот маленьких чудесах. На крике новорожденных и запахе твоего хлеба.
Бронислав наконец обернулся, его лицо озарилось теплой улыбкой. Он вытер руки о фартук и подошел, положив тяжелую, мучнистую ладонь мне на плечо. Сила и тепло этой руки были как опора.
– Держится, Стася, держится, – сказал он твердо. – Пока мы здесь, пока печь топится, он будет стоять. А ты? Совсем измоталась? Хочешь, дров подброшу, в комнате прогреется, поспишь?
– Позже, Бронек, позже. Сейчас просто… посидеть. Послушать чайник. Посмотреть на тебя. Здесь хорошо.
За дверью кухни ещё висела густая, почти синяя тень раннего утра, а внутри нашей маленькой вселенной свет как будто собирался в плотный, тёплый круг, где усталость и подспудный страх, всегда живущий где-то за порогом сознания, теряли свою власть. Была только любовь – вся, что есть: запеченная в корочку хлеба, спетая вполголоса Брониславом строчка старой песни, отраженная в длинной полоске солнечного света на полу, которая, как верный страж, охраняла наш сиюминутный покой.
В этот момент из коридора послышались шаги и голоса. В кухню ввалились их дети… Я смотрела на своих взрослеющих детей…
Сильвия, единственная дочь и вторая после Бронислава, старшего сына. Высокая, худощавая, со сдержанными манерами. Но в ее глазах, обычно спокойных и внимательных, сегодня мелькали тревога и какая-то новая, твердая решимость. Ее взгляд скользнул по утренней газете, лежавшей нераскрытой на краю стола.
– Мама, ты дома! Как роды? – спросила она первая, подходя и целуя ее в щеку. Ее прикосновение было осторожным.
– Две девочки, Сильвия. Живы-здоровы, – ответила Станислава, ловя ее взгляд. В ней жила тайная гордость: она всё чаще спорила с отцом за вечерним чаем не о лекциях, а о будущем Польши, о слухах, приходящих с запада. Ее голос становился жестче, глаза загорались непривычным огнем. Вчера она принесла листовку…
– Это хорошо, мама. Очень хорошо, – сказала Сильвия, но ее взгляд снова уперся в газетный заголовок. – Хотя в такое время… каждую жизнь вдвойне беречь надо. Отец, ты слышал последние новости по радио? Из Данцига? Опять эти провокации…
– Слышал, дочь, – отозвался Бронислав, возвращаясь к тесту, его движения стали чуть резче. – Мука кончится раньше, чем их угрозы. Садись, завтракай.
Станислав, Средний сын, рос подмастерьем у старого механика Панкевича. Он уже схватил со стола ломоть хлеба и, ловко орудуя ножом, намазывал его толстым слоем масла. Его руки, сильные и проворные, всегда были чуть испачканы машинным маслом, под ногтями – черная кайма.
– Мама, ты представляешь, вчера в мастерской! – начал он с порога, глаза блестели от возбуждения. – Старый трактор пана Бжезинского, тот, что на запчасти? Мы с Панкевичем его почти оживили! Ну, не совсем, конечно, но мотор чихнул! Если бы найти новую поршневую… – Он замолчал, увидев усталое лицо матери. – А, ну да… роды. Хорошо, что все в порядке? – добавил он, слегка смутившись. Я знала – его мужество было практичным, как гаечный ключ…
Хенрик, которого мы дома все звали Мацеком, был самым младшим из мальчиков, подростком, но взрослевшим с тревожной быстротой. Он уже сидел за столом, вертя в руках ложку, его взгляд беспокойно метался… слишком часто возвращался домой позже, чем она могла позволить себе не тревожиться.
– Мама, а ты слышала? – выпалил он, не дожидаясь, пока другие закончат. – Вчера на Петрковской! Говорят, киоск Шимона, того еврея с газетами, разгромили! Какие-то люди в штатском… кричали что-то про «чужаков». И полиция будто бы смотрела и ничего! – В его голосе звенел страх и гнев.
– Я сказал – хватит! – голос Бронислава прозвучал как удар тестом по столу. Наступила неловкая тишина. Станислава поймала взгляд Сильвии – дочь чуть кивнула Мацеку (Хенрику), словно говоря: «Потом». Этот молчаливый обмен взглядами между сестрой и братом, полный понимания и общей тревоги, резанул ее сердце острее любых слов.– Мацек! – резко оборвал его Бронислав. – За столом не место таким разговорам. И тем более сейчас. Мать устала. – Но, отец! Это же правда! – настаивал Хенрик, сжимая ложку. – Надо же что-то делать! Сильвия говорит…