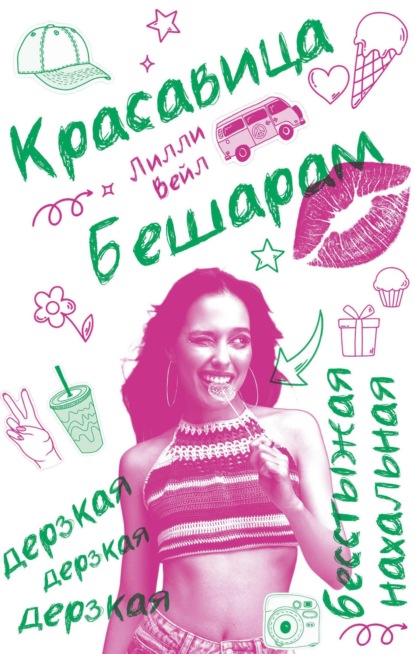- -
- 100%
- +
Сильвия, тихо подошла и прижалась к плечу. Она была подростком, но выросла, кажется, сразу, за последний год. Ее глаза, большие и серьезные, как у отца, смотрели на меня с бездонной чуткостью.
– Мама, я тебе постель приготовила, – прошептала она. – И вода в кувшине теплая. Хочешь, я помогу снять халат? – Никто так тонко не чувствовал неладное в доме, не улавливал сдавленный вздох отца, не умел так внимать моему голосу в ночи… Она уже делила все мои заботы, маленькая хозяйка в ожидании бури.
В ту минуту… я остро… ощутила, как земля уходит из-под ног. Дети мои… Каждый уже выбрал или выбирал свою тропу…
Сильвия – путь сопротивления мыслью и, страшно подумать, делом;
Станислав (Сташек) (1922) – путь умелых рук.;
Хенрик (Мацек) (1923) – путь неистового юношеского гнева… Но все они… искали глазами моего одобрения… Солнечный квадрат на полу дотянулся до ног… Гулкий, металлический голос из репродуктора… заставил всех вздрогнуть. Сильвия и Хенрик (Мацек) переглянулись снова. Тень на пороге сгустилась.
Глава 14. Небо с крестами – тревога вторжения
Утро начиналось с обманчивой нормальности. Кухня, как живое существо, дышала паром от кофейника, пьянящим ароматом свежего хлеба и переплетением голосов – уже не детских, а почти взрослых, несущих в себе отголоски большого, тревожного мира. Говорили о будущем, которое висело на волоске, о политике, просочившейся в каждый дом, о книге, забытой на диване – последнем островке мирной невинности.
– Мам, ты слышала? Вчера Варшава не сдалась, – бросил, не отрываясь от газеты, Бронислав. Она стояла у окна, быстрым, резким движением заправляя рубаху в брюки. Его профиль казался вырезанным из камня. – Отец, если… если нам придется защищать Лодзь, мы ведь не убежим? Не спрячемся?
Бронислав – отец, стоявший у печи, помолчал. Он затянулся губами, на которых белело пятно муки. Его глаза, обычно спокойные и глубокие, как омут, метнулись к старшему сыну, ища в его взгляде опору, но нашли лишь ту же немую тревогу. Тревогу, которую он должен был сокрушить своей тяжестью, как месил тесто.
– Беречь семью – это не бегство, сын, – сказал он наконец, голос низкий, сдавленный. – Но… – Он посмотрел на Хенрика, который нервно теребил край скатерти. – Мужчина не должен прятаться за юбкой матери, когда земля горит. Ты… ты еще мальчишка. Не хватайся за ружье раньше времени. Не зови войну в дом.
– А может, они не дойдут до нас? – вскинулся Хенрик (Мацек), ловко подбрасывая в воздух кусок хлеба и ловя его. Он метнул его брату. Станислав (Сташек) (1922) поймал машинально, даже не взглянув. – Говорят, французы объявили войну Германии! Англичане тоже! Они их остановят!
Броник, сидевший на табурете и чинивший ремень, тяжело вздохнул. Звук напильника по коже внезапно оборвался.
– Хватит спорить, Мацек, – сказал он устало. – Когда большие начинают драться, мелким приходится уворачиваться от сапог. Вот и вся наша мудрость. Лучше бутерброд доешь.
Я смотрела на них – моих детей. Сильвию, высокую, с резко очерченными скулами, с первыми взрослыми складками у глаз и на лбу, с тенью непосильной ответственности в слишком серьезных глазах. Броника умного и справедливого юношу, Сташека, такого же высокого, но более коренастого, с руками механика, уже знающими цену железу и маслу. Хенрика, подростка, но с лицом, взрослеющим слишком быстро, с тенью юношеского гнева в глазах. Моя Сильвия, сидевшая тихо, смотрела на братьев широкими глазами, впитывая каждый жест, каждое напряженное слово. Удивлялась, как время сжалось, словно пружина, выстрелившая их из детства прямо в предгрозовую муть. Хотелось крикнуть: «Хватит!», прогнать этот страх, схватить всех и удержать здесь, в этой кухне, где еще царила мирная, привычная суета, где запах хлеба казался нерушимой стеной. Моя рука сама потянулась к краю скатерти, к знакомой вытертой до блеска дырочке – крошечный якорь стабильности в качающемся мире. Пальцы Сильвии бессознательно повторили мое движение, коснувшись своей тарелки.
И тут всё оборвал Гул.
Сначала – где-то на краю слышимости: низкий, неотчётливый рокот, вибрация, зародившаяся не в ушах, а где-то под рёбрами, в самой подложечке. Минуту я стояла, застыв с полотенцем в руке, пытаясь понять: фабричный гудок? Далекий шум поезда, несущегося по мосту? Но звук не уходил. Он нарастал, катился волной, превращаясь в нечто плотное, осязаемое, заполняющее все пространство. На тарелках задребезжала вода в стаканах. На стекле в моей нетронутой чашке кофе дрогнул, расплылся солнечный блик – маленькое, хрупкое солнце, разбитое вибрацией.
– Мам… что это? – прошептала Сильвия. Она подошла ко мне, ее пальцы впились в край моего рукава, холодные и влажные. В ее глазах, таких ясных обычно, читался тот же животный, неосознанный еще ужас, что сжимал и мое горло. (Про себя: "Ее пальцы… такие же холодные, как тогда, в пять лет, когда она потерялась на ярмарке…")
– Наверное… моторы на заводе разогревают, – попыталась я успокоить ее, но тембр моего голоса – тонкий, дрожащий – предал меня раньше слов. (Про себя: "Боже, только бы моторы… только бы не то, о чем все шепчутся по углам… пусть это ошибка!")
– Это не завод, мама, – отрезала Сильвия. Она подошла к окну и напряженно, почти в упор, вглядывалась в синеву утра. Лицо ее было бледным, губы плотно сжаты. – Смотрите! Смотрите все!
К окну бросились сразу. Наше маленькое, хрупкое слово «дом» в этот миг сжалось у одного стекла: сыновья, вытянувшись в рост, Бронислав – с рукой, застывшей в воздухе, я – с комом ледяного ужаса в горле, Сильвия, прижавшаяся ко мне всем телом, как когда-то в грозу, ее дыхание учащенное, мелкое.
И мы увидели Их.
Над крышами, над знакомыми контурами церковной колокольни, плыли чужие, страшные тени. Не один, не два – десятки. Огромные, глянцево-черные, как тучи саранчи, железные птицы смерти. Их крылья были отмечены четкими, геометрически точными крестами – черными, безжалостными. Один из самолетов, снижаясь, вдруг отразился в моей чашке с кофе – маленький, искаженный, но абсолютно узнаваемый монстр в коричневой лужице. Меня скрутило спазмом тошноты: как можно забыть этот узор? Этот знак, за которым уже пришли миллионы смертей и который теперь навис над моими детьми? Отражение креста в кофе – крошечное, жуткое предвестие, запечатленное в самом обыденном предмете их мирной жизни. В этом коричневом зеркале плыла смерть.
– Мам… – тихо, сдавленно выдохнула Сильвия. Ее пальцы впились в мою руку так, что стало больно. – Это ведь… война? По-настоящему? Как в кино? – Ее голос был тонкой ниточкой, готовой порваться. (Про себя: "Кино… Боже, если бы это было кино!")
Даже вечно болтливый Сташек впервые за утро замолчал. Его лицо, обычно такое живое и открытое, окаменело. Он смотрел на небо, словно механик, оценивающий поломку непоправимой машины.
Я почувствовала, как бешено застучало мое сердце – не столько от собственной паники, сколько от их взрослого, но по-детски беспомощного страха, отразившегося в широко открытых глазах. Этот страх, особенно в глазах Сильвии, был страшнее любого гула.
– Нет-нет, доченька, милая, – залепетала я, хватая ее холодную ладонь обеими руками, пытаясь втиснуть в свой голос хоть каплю убежденности, которой не было внутри. – Учения… большие учения, солдатики играют. Сейчас пролетят, ты увидишь… все будет хорошо… (Про себя, отчаянно, истерично: "Боже, пронеси! Пусть это ошибка! Пусть пролетят мимо! Пусть это кошмар, от которого я вот-вот проснусь! Забери все назад!")
– Да какие учения, мама! – вскрикнул Хенрик (Мацек), его голос сорвался на визгливую ноту отчаяния и гнева. Он ткнул пальцем в сторону дальних районов города, где низкое облако дыма уже начало подниматься над линией горизонта. – Ты слышишь? Ты слышишь?! Это настоящие бомбы! Там, за вокзалом, взрывы! Я же слышу! Господи, они бомбят город! Прямо сейчас! Людей!
Я обвела взглядом детей. Сильвия молча отступила от окна. Ее лицо было искажено не детским страхом, а холодной, бессильной яростью. Она смотрела не на нас, а сквозь стену, на того невидимого врага, который посмел ворваться в ее небо. Ее кулаки были сжаты так, что побелели костяшки. Бронислав, впервые за все годы, опустил взгляд. Его могучая спина сгорбилась под невидимым ударом. Когда он заговорил, его голос, обычно такой основательный, звучал чужим, надтреснутым, но повелительным, как удар топора по дереву:
– В подвал. Все. Сейчас же. Документы. Деньги. Вода. Сухари из буфета. Теплые вещи. Сильвия, бери свое пальто. Быстрее! Не стоять! Не смотреть!
В этот миг, когда он рявкнул "подвал!", и Сильвия вздрогнула, прижимаясь ко мне сильнее, мне показалось, я вижу не этих почти взрослых – студентку, студента, подмастерья, бунтаря-подростка – а снова моих маленьких детей. Броника вечно таскаюшего раненых животных домой, Сильвию, боявшуюся темного чулана, Сташека, плакавшего от сломанной игрушки, Хенрика, прибегавшего ночью в нашу кровать от страшных снов. Самый страшный враг тогда был только в их фантазиях. Теперь он был здесь, реальный, железный, с крестами на крыльях, и его гул заполнял комнату, вытесняя воздух.
Мы двинулись как автоматы, подчиняясь инстинкту стаи, выдрессированному тысячами лет страха. Сильвия не отпускала мою руку, ее тело мелко дрожало, как у пойманной птички. Сташек схватил за плечо Хенрика (Мацека), который замер, ошеломленный, глядя в окно на растущее облако дыма, и быстро, успокаивающе зашептал ему на ухо, пытаясь перекричать нарастающий грохот:
– Идём, брат, идём. Держись ближе ко мне. Ничего, ничего… Мы вместе. Всё равно мы вместе. Понял? Вместе. Как тогда в лесу, помнишь? Выберемся.
Я ощутила этот родной страх – острый, как нож, – перерастающий в ту самую безусловную, всепоглощающую любовь, которая сильнее смерти. И поняла самое страшное: тяжелее всего на свете – врать своим детям, когда знаешь, что больше не сможешь их защитить. Когда твои слова "пролетят" и "не бойся" звучат как последняя насмешка над грохотом смерти в небе и плачем Сильвии, которую ты больше не можешь уберечь от правды. (Про себя: "Прости меня, доченька, прости за ложь…")
В этот час на всю Лодзь, на каждый кирпич, на каждую дрожащую душу, опустился колючий, всепроникающий гул вражеских моторов – звук конца их прежнего мира. За тонкой стеной уже разрывался рыданиями голос соседки, по мостовой гремел и подпрыгивал чей-то наспех упакованный чемодан, а потом взвыла, разрывая душу, сирена воздушной тревоги – протяжный, леденящий кровь вой, от которого Сильвия вскрикнула и закрыла уши руками. А я, лихорадочно прижимая к груди Сильвию, толкая перед собой сыновей к узкой лестнице в подвал, ловила взглядом Бронислава (он схватил металлическую шкатулку с документами и деньгами, я прижала к груди маленький потрепанный альбом с семейными фото – первое, что попало под руку. В кармане платья жгло единственную вынутую из рамки фотографию нашего дома.) и повторяла про себя, как единственную молитву, единственную нить надежды в этом аду: «Хотя бы вместе. Только бы вместе. Пусть ад, пусть смерть – но вместе…». И знала, что даже эта молитва, шептаемая над головой дрожащей Сильвии, уже звучала как непозволительная, почти кощунственная роскошь в городе, над которым раскинулось небо, усеянное черными крестами – предвестниками крематориев.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.