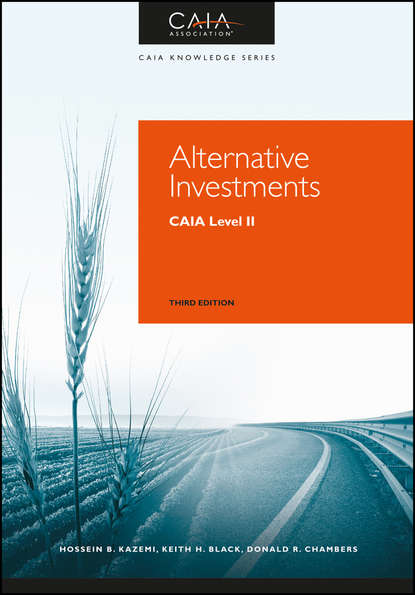- -
- 100%
- +
– У тех, кто всю жизнь курит или дышит фабричной пылью, – ответила мама.– Это у кого такие? – спросила я.
Доктор был не злым и как будто стерильным, как отполированный инструмент. Я была для него склянкой, которую нужно встряхнуть и поставить на полку.
Когда он приложил к спине стетоскоп, стальной обруч холода сомкнулся с кожей. Я вжалась в стул, чувствуя, как он мысленно раздевает меня до органов и костей.
– Всё пройдёт, – сказал он ровным голосом, глядя в рецепт.
От этой пустоты стало еще холоднее и я дала себе слово: если мои руки когда-нибудь будут прикасаться к кому-то в беде, они будут видеть, слышать и возвращать человеку его имя.
Но был и другой урок. Его мне преподала кукла в витрине. Красивая, идеальная, с фарфоровым ликом, на котором не было ни одной трещины жизни. Я подолгу стояла перед ней, и между нами возникал немой договор: я восхищаюсь, а она позволяет на себя смотреть.
Однажды я пришла, и её не было. На полке зияла пустота и я чувствовала предательство. Через несколько дней она вернулась в ярко-красном платье, алом, как свежая рана. Её переодели, кто-то, невидимый и всемогущий, решил, что голубое ей не к лицу. Её волю стёрли, как пыль с витрины, и навязали свою.
Мама, когда я пожаловалась, только усмехнулась: – У нас дома и так одна кукла есть. Живая.
Я больше не подошла к витрине вплотную, смотрела на куклу с тротуара и впервые в жизни почувствовала во рту горький привкус злости.
Но самым страшным был урок о слове. Его преподали два учителя.
Пан Пшибыльский, учитель истории, однажды остановил меня у доски. Он посмотрел так, будто видел насквозь.
– Станислава, ты хорошо пишешь, – сказал он без улыбки. – Запомни: маленькая правда, зафиксированная на бумаге, становится фактом, а факт уже не стереть. Не теряй этого дара, он обязывает.
А хромой пан Козловский, польского языка. Он принёс однажды на урок потрёпанный томик.
– Эту книгу читала мне мать. – За каждое напечатанное слово в ней могли ночью забрать в тюрьму, но она считала, что некоторые слова важнее безопасности.
Он обвёл нас взглядом.
– Слово – это поступок. Выбирая то или иное слово, ты выбираешь сторону. Молчание, это тоже выбор и за любой выбор рано или поздно спросят.
Последние слова повисли в воздухе и в этой наступившей тишине я услышала мерные, неторопливые шаги в коридоре. Они замерли прямо за дверью нашего класса. В матовом стекле оконца отобразилась смутная тень, высокая и неподвижная. Она просто ждала.
Учитель не дрогнул, не поднял глаз, но его рука, лежавшая на раскрытой книге, медленно сжалась в кулак. Мы все смотрели на этот кулак, затаив дыхание.
Тень в стекле постояла ещё мгновение, и поплыла дальше. Только тогда учитель разжал пальцы и тихо, одними губами, прошептал: – Вот так. За любой выбор.
Я выскочила из класса и, не помня себя, свернула за угол, в безлюдный коридор, прислонилась лбом к холодному стеклу. В горле стоял ком. Я сглотнула, пытаясь протолкнуть его, но он не двигался, застревая немым укором.
Рука сама потянулась к горлу, пальцы нащупали цепочку крестика. Я сжала его в ладони, почувствовала, как металл холодит кожу.
В тот вечер я вернулась домой, будто неся на плечах тяжёлый груз. Молча села за стол, сгорбившись, пытаясь собрать в кучу расползающиеся мысли.
Мама что-то готовила у печи. Она посмотрела на меня, на неестественный изгиб спины. Вытерла руки, подошла сзади, положила свои тёплые ладони мне на плечи и начала разминать застывшие мышцы. Она знала по напряжению в моём теле, что случилось что-то важное и трудное. Этот массаж длился ровно столько, чтобы камень внутри начал таять, а спина сама собой выпрямилась.
Она умела лечить состояние.
Годы спустя, в лагере, когда от усталости и страха хотелось согнуться пополам, я вспоминала тяжесть её рук на плечах и выпрямлялась.
Глава 7. Праздник печенийВ нашем доме зима вступала в права по особенному гулу на кухне, по волне пряного тепла, что разливалась по всем комнатам. Это означало: бабушка начинала Праздник печений.
Пекли не обычные пряники, а тёмные от мёда и специй шедевры и у каждого, своя история.
Он не был приурочен к Рождеству, был наш семейный день.
Бабушка, обычно тихая, в этот день преображалась. Становилась главным волшебником, а я, её единственной ученицей. Сперва, торжественный поход в кладовку, там пахло сушёными грибами, яблоками и старой древесиной. Бабушка снимала с полки дубовый сундучок.
– Ну, Стасечка, пора, – говорила она. И в её глазах зажигался огонёк, что был в них десятилетия назад.
В сундучке хранились деревянные формы, завёрнутые в льняную ткань. Каждая, произведение искусства, вырезанное когда-то моим прадедом.
– Это, «Роза», – бабушка бережно проводила пальцем по резным лепесткам. – Её пекла моя мама для отца, когда он уходил на войну. —Внучка, – говорила она мне, – это, запечённая молитва. Пусть сердце твоего отца не черствеет, как эта корочка, а остаётся мягкой, как её сердцевина. Он вернулся и всегда говорил, что это печенье его хранило. Видишь, Стасечка? Слова, замешанные в тесто, обладают силой.
– А это, «Пчёлка». Её пекли, когда в доме ждали ребёнка. Чтобы рос трудолюбивым. Чтобы жизнь была сладкой, а семью он берег, как пчела улей.
Затем начиналась магия. В ступке бабушка растирала тёмные зёрна кардамона, палочки корицы, звёздочки бадьяна. Воздух щекотал нос и вызывал слёзы, от этой щемящей радости.
– Тесто должно выдохнуться, – говорила она, укрывая горшок полотенцем. – Набраться терпения и веры.
Замешивать тесто мне не доверяли, но я могла подливать тёплое молоко и, затаив дыхание, смотреть, как бабушка вливает в него тёмный, как ночь, мёд. Она месила долго и сосредоточенно с закрытыми глазами, вкладывала в тесто тихие слова, известные лишь ей.
– Хорошо, девочка, чувствуешь. Смотри, у тебя «Сердечко» ровнее легло, чем в прошлом году, значит, и в твоём собственном сердце порядок наводится.
Потом они пеклись. Запах был таким навязчивым, что просачивался сквозь щели в рамах. Соседские ребятишки прилипали носами к стёклам, дышали на холодное стекло, предвкушая угощение.
Готовые, ещё тёплые печенья нельзя было есть сразу. Их аккуратно складывали в жестяную коробку с изображением Варшавы, тоже часть ритуала. И лишь на следующий день, за большим столом, при свете лампы, каждый из нас получал своё. Я, родители, Зоська и братья.
– Тебе, Стася, – бабушка протягивала мне «Розу». – Чтобы красивой росла и смелой, как цветок, что сквозь снег пробивается.
Я отламывала крошечный кусочек. Взрыв вкуса, пряного, сладкого, глубокого, надолго оставался во рту.
Сынок, в гетто, когда желудок сводило от голода, а в ноздри впивался запах смерти, я закрывала глаза. Заставляла себя дышать глубже. Пробивалась сквозь все эти смрады к аромату корицы, мёда и гвоздики. Я нюхала собственную кожу, впитывая в себя призрак того запаха. Я вспоминала жестяную коробку, каждую царапинку на её эмали, каждый завиток рисунка. Перебирала в уме бабушкины истории, словно чётки. Язык прижимался к нёбу, вызывая из памяти тот вкус.
Я поняла это не сразу. Сначала я просто пекла, чтобы сбежать, а потом, чтобы доказать себе, что даже если здесь, в тьме и горечи утраты можно замесить тесто и почувствовать его тепло, значит, главный закон творения не отменён. Они могли сжечь хлеб, но не могли сжечь рецепт. Не могли отнять у души её главное умение: брать разрозненные крохи бытия и сплавлять их в то, что имеет вкус, вес и может быть передано.Это была моя самая страшная и самая светлая тайна. В концлагере я снова и снова пекла. Месила призрачное тесто, вдыхала призрачный мёд, вынимала из духовки воображения «Розы» и «Пчёлок». Старалась не упустить ни одной детали: тяжесть ступки, звёздочку бадьяна, тепло молока.
В эти минуты я была не измождённой, оборванной женщиной за колючей проволокой. Я отламывала кусочек и чувствовала его на языке, твёрдый, пряный, сладкий. Я снова становилась девочкой на кухне в луче зимнего солнца. С липкими от теста пальцами и слушающей тихий, мудрый голос бабушки.
И я сжимала этот вкус в кулаке, так же цепко, как когда-то ты держался за мою руку, делая первые шаги. Этот вкус был сильнее голода, выше инстинкта и неотвратимее смерти.
И пока длился этот вкус на языке, лагерь отступал.
А потом в уши врезался запах карболки и голос надзирательницы: «Лещинская, на работу!»
«Бабушка, прости, твоё печенье сбежало. По дороге в духовку завернуло в концлагерь и удрало.»Я открывала глаза.
Мысль была нелепой, духовка была тут, в голове, а печенье сбежало. Эта внутренняя ирония и последний шип, за который цеплялось сознание. Чтобы открыть глаза и встать, чтобы идти туда, где руки пахнут не мёдом и корицей, а карболкой и дезинфекцией, которую всё равно нужно было принимать.
Глава 8. Нить и лезвиеТаков был наш мир. Цельный, пахнущий домом и дождём, скреплённый заветом отца. Мы были так уверены в его нерушимости, что не заметили, как он стал воспоминанием. Последний кадр перед тем, как киноплёнку порвёт.
Я пишу эти строки, и в окно бьётся мотылёк. Слепой и настойчивый, он тычется в стекло, за которым уже стемнело. Он ищет света, не ведая о преграде. Так и мы жили в своём теплом, звенящем аквариуме детства, не видя тени, что медленно поднималась снаружи, затопляя свет.
Закрываю тетрадь. Голубая нить лежит передо мной, когда-то она связывала два дома и два сердца. Теперь она, всего лишь отрезок шёлка.
Я знаю, что скоро подойдут и перережут её и первый разрез будет беззвучным. Просто сосед отведёт взгляд, просто в знакомом голосе появится стальная струнка, просто дверь закроется чуть медленнее, чем вчера.
Мы не знали тогда, что нашу прочную, пахнущую хлебом и яблоками жизнь можно разрезать, как мамин воскресный пирог.
И первый шов, грубый и неловкий, был наложен не в сентябре тридцать девятого, когда началась война. Его положили те первые, робкие предательства: сдвинутая гиря на весах, украденное яблоко, брошенный у забора брат, молчаливое одобрение расправы над куклой.
Тот самый двор, где мы учили друг друга «держитесь вместе», стал нашим первым полигоном. Там мы впервые, сами того не ведая, точили лезвие, что вскорости разрежет нашу общую жизнь, и мою голубую нить, на «до» и «после».
Я беру катушку. Шёлк холодный, но в нём живёт память о тепле, о смехе в крапиве, о пирогах, пахнущих целым миром. Я кладу её обратно в шкатулку, рядом с засохшими цветами и вспоминается мамин сундук. Она не выкидывала старые вещи. Распарывала их, стирала, гладила лоскуты и складывала. «Всё пригодится», – говорила она. В плохие дни поднимала крышку, перебирала выцветшие ситцы и шерсть, проводила по ним руками. Казалось, читала по ним, вспоминала платье, в котором я пошла в первый класс, рубаху отца, в которой женился. Она верила: ничто не пропадает окончательно. Всё можно распороть и сшить заново.
Пусть лежит. Пока эта нить цела, жива и та девочка, что верила, будто ею можно связать разорванное.
Сейчас нужно просто помнить и ждать утра.Я закрываю шкатулку.
Глава 9. Дрожь на пороге и два солнышкаТы просил писать честно, сынок. И я пишу, потому что знаю, тот стержень, который держит человека, когда все рушится, куется в мирных мгновениях, где сердце учится любить и выбирать.
Юность – это трепетная дрожь, когда каждое утро несёт обещание, а вечером накатывает тягостная усталость от нераскрытых возможностей. Я стояла на пороге своего дома и смотрела в гудевший за калиткой мир. Главный вопрос тогда был: – Куда? Куда я должна применить эти руки, свое сердце, чтобы они приносили пользу людям?
– Руки не гниют, дочь. Они либо строят, либо ломают. И рано тебе думать о женихах.Мама поймала меня на пороге. – Стася, куда собралась? Уже темнеет. – К пани Ядвиге на праздник, она просила помочь – сказала я. – Праздник, – мама фыркнула, вытирая руки о фартук. – Там одни франты да сплетни. Ты бы лучше за Зоськой посмотрела, у нее опять температура. – Я не сиделка! – вырвалось у меня резче, чем хотелось. – Мои руки уже скоро сгниют от домашней работы и так и останусь старой девой. Мама замерла. Потом медленно подошла, взяла мои руки в свои.
Ему не дали договорить, нас позвали к столу, слова так и повисли в пустоте, никем не подхваченные.Бал был душным и фальшивым. Я прижалась к колонне, чувствуя себя журавлём в клетке с попугаями. И тут увидела его. Он стоял у резной дубовой двери, будто стесняясь войти. Неуклюжий, как медведь и гладил дверь. Водил пальцами по узору, как по лицу спящего. Я подошла, не знаю зачем. – Красивая работа, – сказала я, просто чтобы что-то сказать. Он вздрогнул, обернулся. Глаза серые, глубокие, как лесное озеро. – Слышите? – прошептал он, и в его голосе была такая уверенность, что я кивнула, хотя не слышала ничего. – Она поёт. Эта дубовая панель. Её резал старик, он умер в в том году, но его песня здесь, в этих завитках. Я замерла. Никто в моей жизни не говорил о дереве как о песне. – А там, за окном, – его голос внезапно стал низким, принимают другие законы. В Берлине пишут на бумаге, кого считать человеком, а кого мусором. – Против людей? – выдохнула я. – Как это возможно? – Очень просто. Начинают со слов, потом слова становятся приказами. А приказы…
Бронислав стал частым гостем в нашем доме. Однажды в день рождения он подарил мне серебряный колосок. – Чтобы помнила, откуда растут твои корни, – прошептал он.
Я не знала тогда, что эти корни придётся вырывать с мясом и кровью. Что наше «вместе» будет пахнуть не только свадебным пирогом, но и порохом.
Свадьба была весёлой, а через год, в 1917-м, на свет явился наш первенец, Бронислав-младший. Когда я впервые взяла его на руки, крошечного, горячего, с удивлённым взглядом, мне показалось, что весь мир теперь вращается вокруг этих двух тёплых ладошек.
В 1919 году родилась Сильвия, наше второе солнышко, свет, который не нужно было искать.
Именно тогда, когда жизнь казалась наполненной до краёв детским смехом и запахом пелёнок, я сказала Брониславу, что хочу выучиться на акушерку. Он не сказал ни слова, но на следующий вечер положил на стол передо мной свёрток, перевязанный бечёвкой. Внутри лежали настоящие медицинские ножницы, острые, как бритва, и флакон спирта.
– Стерилизовать надо. После каждого раза, – сказал он глухо.Он добродушно посмотрел на меня и на ножницы.
– Ты сильнее, чем думаешь, Стася.Он дал мне пропуск в профессию: – Иди. Это твой путь.
Эти слова стали нашим заветом. Мы ещё не знали, что скоро этой силы, этой любви, этого упрямства жить и давать жизнь, понадобится на целую вечность. Что крепость, построенная из дерева, скоро будет испытана железом и ненавистью. Но этот стержень, вера друг в друга, уже был заложен навсегда.
Глава 10. Капсула в фундаментеБронислав сказал это с непоколебимым упрямством.
Я тогда улыбнулась, приняв это за красивую метафору влюблённого плотника. Прижала к груди спящую Сильвию и спросила: «Крепость. А туалет где будет, Броня?» Не знала я, что от этих слов будет сжиматься сердце.– Я построю для нас дом. Нет, – он обвёл рукой мнимый периметр, – я возведу крепость. За этими стенами мы будем в безопасности.
Броник задумывается, явно представляя этакого щедрого, сердечного крота-защитника. Я смеюсь и мне показалось, что он закладывает в землю наше общее сердце. Я даже почувствовала его тихий стук сквозь толщу земли и камня.Но ещё до того, как положить первые венцы, он совершил наш семейный ритуал. Выкопал яму, достал жестяную коробочку из-под леденцов. Вложил монету, записку с нашими именами, и будущий эскиз его мастерской. Трехлетний Броник спросил: – Папа, что ты делаешь? – Кладу наше сердце в землю, сынок, чтобы дом жил долго. – Оно не замокнёт? Бронислав смотрит на него, потом на меня. В уголке его губ едва заметная усмешка. – Не должно. Мы же его в коробку спрятали. – А если крот съест? – не унимается Броник. – Тогда, – Бронислав кладёт коробку в яму и начинает закидывать землёй, – крот станет самым счастливым зверем на свете. У него будет наше сердце и он будет охранять наш дом.
Сначала он поставил сруб и крышу над двумя комнатами, лишь бы нам с Броником и грудной Сильвией было где спрятаться от дождя и первых простуд.
Потом пристроил кухню и веранду, в которую вечерами вытекал тёплый свет лампы. Он разговаривал с деревом так же внимательно, как со мной.
– Я ему говорю: «Броня, шкаф в детскую нужен и мойка на кухню». А он мне: «Эта сосна просит, чтобы из неё полку сделали, а не шкаф. У неё сучок тут, видишь, характерный». Я хоть и любила его за эту странность, но посуду-то мыла на ящике, а не на «характерном сучке»! И он старался.
Внутри всё было «точно по руке»: светлая кухня с большим отшлифованным столом; комната детей с полкой для книг; и маленькая кладовка, мой «уголок акушерки». На полках: кипячёные пелёнки, травы в банках, перевязанные льняной ниткой, жгуты, ножницы. А на стене, под образом Божьей Матери от мамы, висела готовая сумка – чтобы в любую минуту сорваться и помочь чужим детям появиться на свет.
Я смотрела, видела доску, а ещё видела, что у Броника штанина выше ботинка, и что завтра надо на базар за тканью. Мои мечты были из ситца и крупы, его из дуба и лака. Иногда мне казалось, мы живём в разных домах.Рядом с домом стояло другое строение, сарай. Его страсть и отдушина. Наш тёплый дом был для него лишь гостиной, куда он заходил обогреться. Это было его царство. Особенно он любил бывать там под вечер, а я стояла на кухне у раковины, слыша ровный гул рубанка, и злилась. Потому что знала: там, в этом святилище, он по-настоящему счастлив. А здесь, со мной, с детьми, с кашей на плите, он просто обязан быть вместе с нами и разве это не тяжелее любой работы? Иногда я приносила ему ужин. Стояла на пороге, тарелка в руках, а он не замечал, проводил пальцем по шелковистой доске. – Красиво, – говорил он больше дереву, чем мне. – Суп остынет, – огрызалась я. – Сейчас. Ты только посмотри, какой рисунок…
Вдоль одной стены стояли верстаки, заставленные баночками с морилками, кистями, стамесками, рубанками и шлифовальными блоками. Каждый инструмент висел на своем месте, отполированный до блеска многолетними прикосновениями. На полках лежали обрезки ценных пород дерева, дуба, ясеня, ореха; куски фигурного клена, похожего на застывший малахит. Бронислав знал историю каждого обломка, как знают имена старых друзей.
Иногда, когда дети засыпали, я выходила на крыльцо. Ветви ивы гладили землю, и в их шелесте слышался домашний разговор и едва уловимый холодок большого мира за калиткой. Я чувствовала собственную, невысказанную тревогу. Хватит ли денег до получки? Почему Бронислав молчит всё чаще? Но ива, кажется, знала больше и, чёрт побери, мне начинало казаться, что и я знаю, но молчу. Потому что в крепости положено молча держать оборону. И я держала, даже когда злилась на него за его молчание.
Сынок, ты спрашивал, как держатся люди, когда вокруг всё рушится. Они держатся на словах. Твоего отца давно нет, но я помню, как он сказал: «Я построю для нас крепость». Он сдержал слово.
У меня была одна, самая дорогая фотография. Бронислав стоит у только что возведённого сруба, рука на бревне, как на плече друга. Он смотрит прямо в объектив и улыбается той редкой, беззащитной улыбкой, которая бывает только у очень сильных людей, позволивших себе на мгновение расслабиться. На обороте его твёрдый, ясный почерк: «Крепость. Август 1925».
Много лет спустя, уже после войны, в архивах я нашла дело. Среди протоколов обысков и доносных бумажек был приложен тот же снимок. Его размножили и подшили в папку с грифом «Политически неблагонадёжные».
Кто-то химическим карандашом, жирно, перечёркивая улыбку моего мужа, вывел крест-накрест и написал: «Объект 74Б. Ликвидировать».
Два взгляда на одну фотографию. В первом, вся любовь и надежда человека, построившего свой мир. Во втором, безличный приговор системы, единственная цель которой, ликвидировать чужие миры, чтобы они не напоминали о том, что у человека может быть своя крепость.
Я всю жизнь старалась сдержать своё, беречь этот свет, что он зажёг в очаге, даже когда стены нашей крепости рухнули. Я до сих пор помню ту монету, записку и рисунок в жестяной коробке. Они там, в земле, а фотография с крестом, в архиве.
Глава 11. Первые роды: когда руки знают раньше головыК тому времени у нас уже был дом, с ивой у калитки, запахом хлеба по утрам и шумной детворой внутри. Ты, Броник, был уже серьёзным мальчишкой, а Сильвия, солнечным лучиком. Я училась на курсах акушерок.
Училась по книгам, где всё было чётко и стерильно. Ни слова про то, что делать, если нет горячей воды, на полу грязь, а в голове одна мысль: «Господи, только бы не навредить».
– Пани Станислава? – в проёме стоял сосед Лях, весь в инее. – Пани Рутковская… началось. Слишком рано. Муж на смене. Поможете?Той зимой двадцать второго года тихо валил снег. Ночью я уложила вас всех спать, сама села к лампе пересмотреть конспекты. «Тазовое предлежание… признаки асфиксии…» Слова расплывались перед глазами. В голове крутилось: «А вдруг я всё забуду?» И вдруг в дверь постучали так, что дрогнула чашка. Как будто в дверь бросили мёрзлый ком.
– Иди. Мы справимся, – сказал он просто.Сердце упало куда-то в живот. Первые самостоятельные роды. Я кивнула, уже вставая. Руки сами делали своё дело: сумка, простыни. Бронислав дотронулся до моей спины.
Сугробы хрустели под сапогами. В окнах светились жёлтые квадраты. «У них там тепло, – думала я, продираясь через метель. – А я иду в чужую боль. И, может, в смерть и конспекты мне не помогут». В горле стоял ком. «А что, если ребёнок мёртвый? А если она умрёт? Меня же потом засудят или просто побьют. Бронислав не сможет помочь. Никто не сможет».
– Хлебом пахнет, – злобно думала я, пока она дышала. – А здесь пахнет страхом и я вру. Я уже вру, как опытная акушерка. Значит, всё идёт по плану. У Рутковских пахло луком и мокрым деревом. Анеля лежала, стиснув простыню, и шептала: – Рано… я не готова. Я взяла её за руку. Её ладонь была мокрой и холодной, как у покойника. От этой мысли меня передёрнуло. – Вот и вся моя уверенность, – подумала я. Но рот уже говорил сам, какими-то чужими, странно спокойными словами: – Готова. Ты не одна. Вдох, как хлеб пахнет. Выдох, как чай остужаешь.
А я смотрела на эту сцену и думала, теперь малышка отдельный человек и я справилась.Когда пришло время, в комнате стало слишком тихо. Я услышала, как за стеной булькает самовар. – Сейчас, Анеля. Собери все силы и тужься. И она родила девочку. Красную и недовольную. Я ждала торжества, а почувствовала только дикую, всепоглощающую усталость. И легчайшее, стыдное разочарование: «И всё? Уже? А где же чудо?» Я положила его матери на грудь. Она засмеялась, как девчонка: – Боже… какая она тёплая!
Он кивнул, молча встал и подошёл ко мне. Его большие, привыкшие к грубой работе руки бережно сняли с меня шаль. Потом он взял мои руки, холодные, затекшие, пропахшие чужим страхом и антисептиком, и повёл к умывальнику.Когда я вернулась под утро, ноги подкашивались. Дом встретил тишиной, но на кухне горел свет. Бронислав не спал, он посмотрел на меня. – Ну? – Девочка, орала на весь мир. Значит, будет жить.
Он налил в таз тёплой воды из чайника, взял кусок хозяйственного мыла и начал мыть мои руки. Медленно, тщательно, проводя своими натруженными пальцами по каждой линии, смывая с них следы долгой ночи, боль, усталость, чужой пот. Он смывал с меня всё чужое, возвращая себе. Дому. Ему.
Он не говорил ни слова. Он просто мыл мои руки, а я стояла с закрытыми глазами, чувствуя, как отступает напряжение, как тепло воды растекается по всему телу. Потом он вытер их чистым, грубым полотенцем, поднёс к губам и поцеловал каждую ладонь.
И только тогда обнял меня, прижал к своей широкой, твёрдой груди, и я наконец расслабилась, позволив себе усталость, зная, что могу быть слабой, он сейчас крепок за нас обоих.
После той ночи всё закрутилось так, что я порой забывала, какой сегодня день. Слух о том, что в нашем квартале есть «своя» акушерка, расходился быстрее молнии. Кто-то стучал в окно ранним утром, кто-то в сумерках, а иногда и прямо среди ужина.
– Представляешь, у той женщины… муж даже не спросил, как она. Вошёл, посмотрел на ребёнка, спросил: «Мальчик?» Кивнул и ушёл. Я хотела ему этими ножницами… – я ткнула пальцем в свою сумку.Однажды, после особенно тяжёлых родов в доме, где пахло нищетой и водкой, я не сдержалась. Всё ещё дрожа от адреналина, я буркнула:
– Неправильный инструмент,Бронислав, не отрываясь от починки кастрюли, сказал своим обычным, глуховатым тоном:
– Неправильный инструмент, – повторил он, аккуратно зажимая заклёпку. – Для таких дел, топор нужен.– Я онемела. – Что?
В кухне повисла тишина. Потом из моей груди вырвался звук, короткий, судорожный смех. А за ним настоящий, истерический хохот. Я смеялась, уткнувшись лицом в стол, давясь слезами и чувствуя, как смех вымывает из меня ту злобную грязь, что накопилась за ночь.