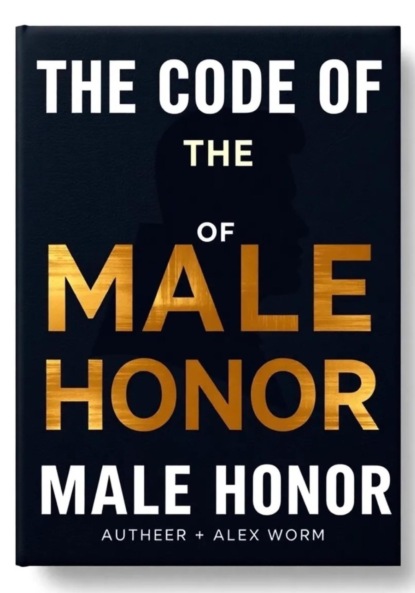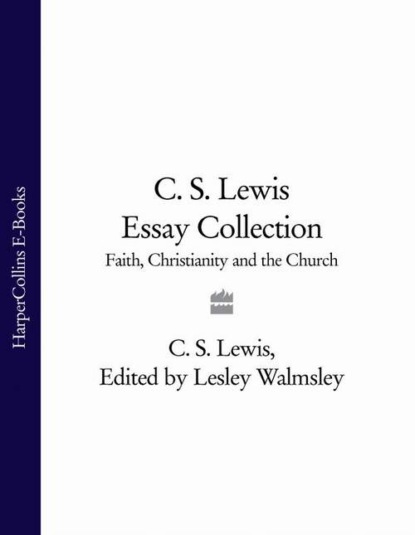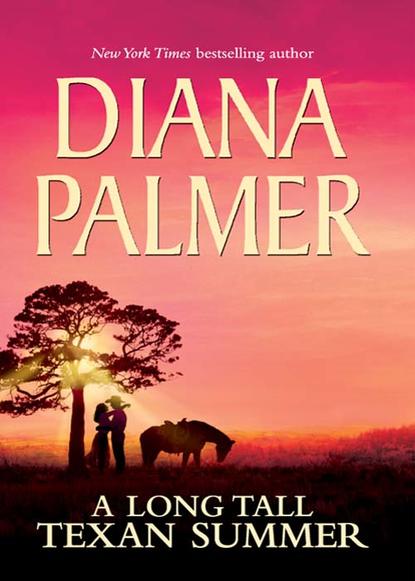- -
- 100%
- +
Встаю. Откладываю телефон в сторону. Экран гаснет, унося с собой призрачные надежды. Подхожу к бару. Заказываю текилу, не сок, а просто лайм и соль. Обжигающий глоток ставит всё на свои места. Ощущение ясное и жёсткое, как удар.
Поворачиваюсь спиной к телефону и смотрю на море. Настоящее, живое, дышащее. Оно здесь. И жизнь здесь. Бармен, симпатичный парень, кивает мне, дескать, как дела. Девушка с рыжими волосами у бассейна, которая уже второй час поглядывает в мою сторону, наконец ловит мой взгляд и улыбается.
Я улыбаюсь в ответ. Впервые за долгое время – искренне.
А когда она всё же вернётся – потому что они всегда возвращаются, когда понимают, что ты перестал ждать, – тогда и поговорим. Если, конечно, к тому моменту у меня ещё найдётся для неё что сказать.
«Фиксированные алименты»
Семён Павлинцев сидел на жестком деревянном стуле и старался не смотреть в ту сторону, где сидела Анжелика. Он чувствовал её взгляд на себе, тяжёлый и колючий. Вместо этого он сжал в кармане ключи от старой «девятки» и слушал, как его адвокат, немолодой мужчина с усталым, но цепким взглядом, раскладывает папки с бумагами.
– Ваша честь, – начал адвокат твёрдым, размеренным голосом, – мой клиент, Семён Павлинцев, отец пятерых общих с истицей детей. Двое старших уже совершеннолетние, с них алиментные обязательства сняты. В настоящий момент на совместном содержании остаются трое: дочь пятнадцати лет, сын тринадцати и младшая дочь десяти лет от роду. Господин Павлинцев несёт все расходы по старшим детям и ответственно подходит к своим родительским обязанностям по отношению ко всем. Однако заявленная сумма именно на младшую дочь – двадцать пять процентов от его дохода – составляет пятьдесят тысяч рублей. Мы полагаем, что сумма необоснованно завышена. Семейный кодекс гласит, что расходы на содержание ребёнка должны распределяться между родителями поровну.
Судья, женщина в мантии и строгой причёске, медленно подняла на него глаза.
– У вас есть доказательства, что мать ребёнка тратит на него аналогичную сумму? – спросила она, и в её голосе не было ни одобрения, ни порицания, лишь холодная деловитость.
Адвокат кивнул и выложил на стол аккуратную стопку бумаг.
– Здесь представлены все необходимые документы: чеки на покупку одежды, обуви, школьных принадлежностей, квитанции об оплате музыкальной школы и спортивной секции. Согласно нашим подсчётам, фактические ежемесячные расходы именно на младшую дочь не превышают двадцати тысяч рублей. При этом, – он сделал небольшую паузу, подчёркивая весомость следующих слов, – истица имеет стабильный заработок в размере восьмидесяти тысяч рублей и вполне может разделить эти траты пополам. Прошу также учесть, что мой клиент полностью содержит двоих совершеннолетних детей, которые продолжают обучение.
Анжелика, сидевшая напротив, резко вскинула голову. Её щёки залила краска.
– Он что, собирается считать каждую копейку?! – её голос, высокий и срывающийся, прозвучал как щелчок хлыста. – Это же его родные дети!
Адвокат Семёна повернулся к ней. Его лицо осталось абсолютно невозмутимым.
– Именно так, – ответил он ледяным тоном. – Мы считаем общие расходы на всех детей. Если вы утверждаете, что ваша младшая дочь одна нуждается в ста тысячах рублей ежемесячно, будьте любезны предоставить подтверждающие документы, обосновывающие такие затраты исключительно на неё. И если в этих чеках вдруг обнаружатся, к примеру, дизайнерские платья или косметика люкс-класса для десятилетнего ребёнка, я буду вынужден попросить вас предоставить также и разумное обоснование необходимости таких покупок.
Семён сжал кулаки под столом. Он не смотрел на Анжелику, но чувствовал, как от неё исходит волна бешенства. Он думал о старших, об их институтских расходах, о новых коньках для сына и обещанном кружке рисования для младшенькой, на который он копил несколько месяцев. Судья молча изучала бумаги, перекладывая их руками в белых перчатках.
Решение пришло через неделю. Фиксированные алименты на младшую дочь. Десять тысяч рублей ежемесячно.
Семён вышел из здания суда, сжимая в кармане пальто сложенный вчетверо документ. Воздух был холодным и прозрачным. К нему подошёл адвокат, закуривая папиросу.
– Всё законно, Семён. Справедливость восторжествовала. Несправедливость можно победить. Главное – знать, как за неё сражаться.
Семён кивнул. Он разжал пальцы, вгляделся в ровные строчки постановления, и впервые за долгие месяцы позволил себе улыбнуться. Это была не улыбка торжества, а тихое, молчаливое облегчение. Теперь он мог спокойно оплатить тот самый кружок и помочь старшим. Он выпрямил плечи, ощущая тяжесть ответственности за всех своих пятерых, и твёрдо зашагал по серому асфальту домой.
«Сумка»
Она вернулась. Как ни в чём не бывало. Дверь открылась, в прихожей зашуршали её шаги, лёгкий запах чужого парфюма, смешанный с дымом сигарет.
Я сидел на кухне, пил холодный чай и смотрел в окно. В голове – один и тот же голос, чёткий, как приказ: «Встань. Возьми сумку. Уйди».
– Привет, – сказала Анжелика, заглядывая в комнату. Улыбка. Как будто не бросала меня с четырьмя детьми на месяц. Как будто не исчезала без объяснений. Как будто я – дурак, который снова поверит в её «просто устала, просто отдохнула».
Я встал. Прошёл мимо, не глядя. В спальне на полу уже лежала старая спортивная сумка – я начал кидать в неё всё, что попадалось под руку: носки, зарядку, документы.
– Ты чего? – её голос за спиной. Напряжённый.
– Ухожу.
– Куда?!
Я засмеялся. Сердито, громко.
– Ты серьёзно спрашиваешь? После того, как свалила на месяц, оставив мне четверых детей, квартиру, долги? После того, как даже не звонила?
Она попыталась схватить меня за руку:
– Я же объяснила! Мне нужно было отдохнуть!
– Отдохнуть, – повторил я. – Конечно.
Я застегнул сумку и двинулся к выходу. Дети спали, и это было к лучшему.
– Ты не можешь просто взять и уйти! – её голос дрожал.
– Могу. Ты научила меня этому.
Дверь захлопнулась за мной громче, чем я планировал.
На улице было тихо. Я шёл, сжимая ручку сумки, и впервые за долгое время чувствовал – дышу полной грудью.
Голос в голове наконец замолчал. Он сказал всё, что нужно.
Остальное – уже не его проблема.
«Бегство от собственного крика»
Мы сидели в полутемном баре, и ты крутил в пальцах стакан, так и не сделав ни глотка. Я тогда сказал тебе: «Беги от неё, обгоняя собственный крик». Но ты не побежал. Ты остался. И вот что из этого вышло.
Она ушла. Нет, сначала – натворила лютой дичи. Потом ушла. Потом были эти мужики, эти «ничего не было», эти клятвы сквозь зубы. А теперь – щелчок пальцев, и она возвращается. Как будто так и надо. Как будто ты – дверь, в которую можно бесконечно стучать, зная, что она всегда откроется.
И она правда так думает. Потому что ты принял её. Снова.
Я наблюдал за тобой со стороны, Семён. Смотрел, как ты впускаешь её обратно в свою жизнь, в свою квартиру, в свой воздух. Ты думал, я не заметил, как твои плечи снова сгорбились под невидимым грузом? Как исчезла та лёгкость, что появилась за те месяцы, когда её не было?
Она не поняла ничего. Не прочувствовала ни грамма той боли, что оставила после себя. Не осознала, что люди – не мягкие игрушки, которые можно швырять в угол, а потом подбирать, отряхивая пыль. Нет настоящего раскаяния – только удобство. Ты для неё – удобство, Сём. Ты – тёплое место, куда можно вернуться, когда на улице холодно.
Анжелика. Имя как обёртка от дорогой конфеты – яркое, манящее, а внутри уже давно выветрился весь вкус. Одна лишь сладость на языке, которая тут же горчит.
Она сейчас спит в твоей постели, повернувшись к стене. А ты стоишь на кухне и смотришь в чёрное окно. В отражении – твоё лицо, и в нём нет ни злости, ни счастья. Лишь усталое понимание.
Пусть идёт лесом, Семён.
Пусть поживёт одна. На свою зарплату. В своей пустой квартире, где никто не готовит ей кофе по утрам. Где никто не закрывает её плечи одеялом, когда она засыпает перед телевизором. Где никто не слушает её бесконечные «у меня всё сложно».
Пусть поймёт, что ты – не данность. Что любовь – не бездонный колодец, из которого можно черпать, пока руки не устанут.
А если не поймёт – значит, так тому и быть.
Но ты-то поймёшь. Рано или поздно.
Поймёшь, что иногда надо не ловить, а отпускать. Даже если крик внутри рвётся наружу. Особенно – тогда.
Завтра утром ты проснёшься и увидишь её спящее лицо. И впервые за долгое время твоё сердце не дрогнет. Оно просто сделает тихий, окончательный щелчок – как замок, который больше не отопрётся.
И это будет твоя победа. Та, о которой никто не узнает. Кроме тебя самого.
Не ищи
Семён Павлинцев засунул руки в карманы старой рабочей куртки и смотрел на пыльную дорогу, уходящую за горизонт. Грузовик был починен, но садиться за руль и ехать дальше не хотелось. В горле першило от дорожной пыли, а в голове стоял звон от многодневного одиночества.
Именно тогда я её увидел. Она вышла из придорожной столовой, и солнце ударило ей в волосы, сделав их ослепительно-белыми. Она была не от мира сего, эта Анжелика. Не та, что бегает по тротуарам в каблуках, а та, что словно сошла со старой картины. Высокая, спокойная, с взглядом, который видел тебя насквозь.
Она подошла к моему «Уралу», постучала костяшками пальцев по обшивке.
– Давно гонишь? – спросила она. Голос был низким, хрипловатым, как будто она тоже наглоталась дорожной пыли.
Так началось. Она ехала в соседний город и попросилась подвезти. Я, обычно молчаливый, в тот вечер разговорился. Она не болтала попусту, а слушала. Слушала так, что хотелось вывернуть душу и показать всё, что наболело. Про неудачные рейсы, про долги, про то, что в тридцать пять лет за спиной лишь кабина и бесконечная лента асфальта.
Мы доехали до её города уже глубокой ночью. Она вышла, кивнула и ушла, не оставив номера. Я просидел в кабине ещё с полчаса, чувствуя странную пустоту. Будто в двигателе кончилось масло.
Следующие рейсы я прокладывал через тот самый город. Заходил в ту же столовую, пил безвкусный чай и смотрел на дорогу. И через две недели увидел её снова. Она шла по обочине с авоськой, полной овощей.
Остановился.
– Нужно подвезти? – спросил я, и голос мой прозвучал сипло.
Она улыбнулась, словно ждала.
– Только если ты не против заехать ко мне. Сварю борщ. Отплачу за тот рейс.
Её дом был маленьким, пахло сушеными травами и старой древесиной. Пока она возилась у плиты, я сидел за кухонным столом и чувствовал себя не на месте. Я привык к дорожной грязи, к машинному маслу, к грубому смеху в придорожных кабаках. А здесь была тишина. И этот запах щей, от которого сводило живот.
Она налила мне полную тарелку, поставила передо мной и села напротив, упершись подбородком в кулак. Я ел молча. Это был лучший борщ в моей жизни.
– Ну как? – спросила она.
– Хорошо, – хрипло ответил я.
С тех пор это стало традицией. Я делал крюк в сотни километров, чтобы просто заскочить к ней на час. Посидеть на её кухне, поесть её стряпни, помолчать. Мы почти не говорили о будущем. Оно было туманным и ненужным, как далёкий лес в осеннем мареве.
Однажды я приехал, а её дом был пуст. На столе лежала записка, написанная её твёрдым почерком: «Уехала. Не ищи. Спасибо за всё, Семён».
Я смял бумажку в кулаке. Вышел на крыльцо. Воздух был холодным и колким. Где-то далеко гудела машина. Я сел в свою кабину, завёл двигатель и посмотрел в зеркало заднего вида на её опустевший дом. Я не искал её. Она была из тех, кто не возвращается. Как удачный день или как потухшая звезда.
Я включил передачу и тронулся с места. Впереди лежала дорога. Длинная, прямая и пустынная. А на душе было тихо и пусто. Будто я оставил там, на её кухне, какую-то важную деталь, без которой мотор продолжает работать, но уже не так ровно и уверенно.
«Делай комплименты, сука!»
Она уперла руки в бока и смотрела на меня так, будто я только что разбил её любимую вазу.
– Ну-ка, делай мне комплименты! Быстро! А то я обижусь! – её голос звучал как ультиматум.
Я медленно поднял глаза от телефона, вздохнул и сказал:
– У тебя классная задница.
Тишина.
– ЧТО?! – её брови взлетели к волосам.
– Это единственный комплимент, который я собираюсь сделать.
Она открыла рот, закрыла, потом снова открыла:
– Ты… ты вообще…
– Я не умею делать комплименты по заказу, – пожал я плечами. – И не буду.
Её лицо покраснело.
– Ну и иди тогда нахер!
– Окей, – кивнул я.
Она развернулась и ушла, громко хлопнув дверью.
Я допил кофе. Горьковатая гуща осталась на дне чашки. Посмотрел на часы – пора было на работу. Встал, подошёл к окну. На улице был обычный пасмурный день, серый и без красок. Таким он стал казаться мне ещё месяца два назад.
Вечером вернулся в пустую квартиру. Тишина была густой, но не давящей. Я сварил себе пельменей, поел один за кухонным столом. Вспомнил, как Анжелика всегда сердилась, что я не ставлю тарелку на подставку. Достал из холодильника бутылку пива, открутил крышку. Звук показался неестественно громким.
На следующий день после смены зашёл в гараж. Запустил двигатель своего старого мотоцикла, послушал его ровный, честный рокот. Стал ковыряться в карбюраторе, руки в мазуте, мысли в порядке.
Через неделю встретил соседа, Николая Ивановича. Он курил на лавочке у подъезда.
– А где же ваша барышня, Семён? Такая яркая, – спросил он, прищурившись.
– Ушла, – ответил я.
– Жаль, – сказал старик и затянулся. – Красивая была.
– Не спорю, – кивнул я.
Он посмотрел на меня внимательно, потом хмыкнул.
– Зато сейчас спокойно, да?
– Зато сейчас спокойно, – согласился я.
И это была правда. Тишина стала не пустой, а своей. Я мог читать, никого не слушая, или просто сидеть, глядя в стену. Никто не требовал от меня слов, которые я не хотел произносить.
Как-то раз, перебирая старые вещи, я нашёл её заколку. Блестящую, как и всё, что она любила. Подержал в руках, посмотрел на её холодный блеск и выбросил в ведро. Она была бесполезна и больше никому не была нужна.
Я понял, что всё сделал правильно. Потому что если женщина требует комплиментов, как начальник требует отчёта, значит, она уже не видит в тебе мужчину. А зачем тогда вообще всё это?
Лучше уж пусть идёт. И лучше уж быть одному, чем с кем попало, только чтобы не быть одному.
Хреновый знак
Пыль на подоконнике лежала ровным серым слоем. Я провёл по ней пальцем, оставив чёткую борозду. Порядок должен быть во всём. Хотя бы в малом. Я сидел на кухне, пил свой утренний кофе, густой и крепкий, и смотрел, как Анжелика наносила последние штрихи перед зеркалом в прихожей. Духи, серьги, сумка. Движения её были отточенными, быстрыми. Она уже была готова к выходу, к тому миру, что ждал её за порогом.
– Ну, я пошла, – бросила она через плечо, не глядя на меня, и повернулась к двери.
– Стой, – сказал я спокойно, не отрываясь от чашки. Голос мой был ровным, как стол. – Ты куда?
Она обернулась, сделав удивлённое, даже немного оскорблённое лицо. Хорошая актриса. Мы играли в этот спектакль всё чаще.
– Как куда? На девичник к Лере. Я тебе вчера говорила.
– Говорила. Но между нами был уговор. Мы не договаривались о таком.
В кухне стало тихо. Слышно было, как за стеной сосед включил дрель. Анжелика сделала шаг ко мне, изобразив лёгкое недоумение.
– Семён, ну что ты? Мы же взрослые люди. Все девушки будут одни, это же традиция. Девичник.
– Именно поэтому, – я поставил чашку на блюдце. Чёрный фарфор звонко стукнул о белый. – У нас с тобой было правило, чёткое и ясное. Мы везде ходим вместе. Все эти вечеринки, посиделки в барах – мы всегда были парой. Бывало, конечно, что на её корпоративах жён не жаловали, или на моих встречах не было места дамам. В таких случаях мы либо отказывались от приглашения, либо, если мое присутствие был обязательным, я приезжал за ней позже, и мы уезжали вместе. Так было. Так мы и договаривались.
Правило это родилось не из недоверия. Оно было нашим общим щитом, островком уверенности в бурлящем мире. Это был наш способ быть командой. Всегда.
– Это уютное кафе, а не корпоратив! – вспыхнула она. – Ты делаешь из мухи слона.
– Суть не в стенах, а в принципе, – ответил я. – Мы либо вместе, либо нет. Ты стала пренебрегать нашими уговорами. Сначала переводила всё в шутку, говорила, что я слишком серьёзно всё воспринимаю. Потом стала уезжать одна, ссылаясь на мелочи, а я, признаться, устал бороться и на какое-то время махнул рукой. Словно разрешил. И что? Я видел, как ты отдаляешься. Как тебе стало неинтересно со мной. Как потух твой взгляд, когда мы оставались одни. И теперь ты целенаправленно ищешь эти «девичники», эти отлучки. Ты ищешь что-то на стороне. Без меня.
Она молчала, сжав ремешок своей сумки так, что костяшки пальцев побелели. Не гнев был в её глазах, а холодное, отстранённое раздражение.
– Ладно, – выдохнула она, срывая с уха длинную серьгу-подвеску. – Хозяин – барин. Пусть будет по-твоему. Вернём твои суровые порядки.
Она прошмыгнула в ванную. Я услышал, как щёлкнул замок. Я допил кофе, глядя в серое окно. Через полчаса она вышла оттуда с мокрыми волосами, пахнущая новым гелем для душа, сладким и чуждым. И тут я понял. Сработало что-то на уровне инстинкта.
– Ты побрилась, – сказал я без предисловий.
Она замерла на пороге кухни, будто наткнулась на невидимую стену.
– Что?
– Там. В ванной. Ты побрилась. Ноги.
Она покраснела, быстрый, предательский румянец.
– С чего ты взял? Я просто приняла душ.
– Не ври, – я отодвинул от себя чашку. – Я знаю. Знаю, как пахнет твой крем после бритья. Знаю, как ты двигаешься, когда делаешь это.
Знак был хреновый. Очень хреновый. Если женщина, зная, что никуда не идёт, что вечер и так сорван, вдруг решает провести полный ритуал, побриться – значит, мысль уже здесь, в стенах этого дома. Она уже мысленно ушла. Она не просто обижена на мою твёрдость. Она допустила, что эта ночь могла бы сложиться иначе, что её тело могло бы быть оценено другими глазами. А если допустила – значит, уже хочет, чтобы это случилось. Наши договорённости для неё больше не имели веса. Они были пустым звуком, помехой.
– Ты считаешь мои шаги? – прошипела она, и в голосе её прозвучала не ярость, а ледяное презрение. – Регистрируешь, когда я бреюсь?
Я усмехнулся, отпивая последний глоток холодного кофе. Горького.
– Нет. Я просто помню. Помню наши уговоры. Помню, как всё было. И вижу, как стало. Ты уже не здесь. Ты мыслями там, где нас нет.
Тишина повисла между нами, тяжёлая и густая, как смог. Она больше не смотрела на дверь. Теперь она смотрела только на меня. И теперь вопрос был не в том, пойдёт она или нет. Вопрос был в том, что наши правила, наш старый, надёжный каркас, больше не удерживал её. Она уже мысленно переступила через него. И я видел это с предельной, мучительной ясностью.
Последний знак
Конец. Я понял это не вчера. И даже не месяц назад. Это приходило ко мне медленно, как ржавчина, съедающая сталь. Тихими ночами, спиной к спине на холодном простыне. Её безразличием, которое тяжелее любой ссоры.
Раньше всё было иначе. Анжелика. Её имя звучало как приказ, когда она шептала его, прижимаясь губами к шее. Она смотрела на меня так, будто хотела съесть, впитать, стереть в порошок. В её глазах стоял тот самый туман, а пальцы впивались в предплечье, оставляя следы. Она горела. И я горел рядом с ней. Мы сжигали друг друга дотла и воскресали снова, только чтобы повторить.
А потом огонь стал гаснуть. Сначала незаметно. Отказ под благовидным предлогом. «Устала, Сём». Потом ещё один. Потом её взгляд стал скользить мимо. Её поцелуй превратился в сухое прикосновение губ к щеке перед уходом на работу. Она перестала обжигать.
Я включил голову. Мужчина же должен решать проблемы. Я дарил ей духи, которые она любила, планировал уикенд в том самом отеле, где всё началось, пытался говорить правильные слова. Я тушил пожар её равнодушия деньгами, вниманием, планированием. Глупец. Ты не можешь залить водой пепел и надеяться, что он снова вспыхнет.
Проблема была не в цветах. Не в свечах. Проблема была во мне. Вернее, в том, кем я стал для неё. Я превратился в фон, в привычную деталь интерьера, в гарантию быта. Перестал быть загадкой, риском, самцом. Перестал быть тем, от кого перехватывает дыхание.
И если дыхание перехватывает – значит, где-то есть тот, кто это делает.
Он. Тот, чьё имя я, может, никогда не узнаю. Он пока невидим, но его дыхание я уже чувствую на своей шее. Его тень лежит между нами в кровати. Это он заставляет её улыбаться смартфону, пряча экран от меня. Это его слова согревают её изнутри, пока я пытаюсь согреть её своими руками. И когда она отворачивается ночью, её спина – это не баррикада, это окно, в которое она смотрит, думая о нём.
Так бывает. Мужики на кухнях шепчутся об этом, но вслух не признаются. Стыдно. Как стыдно мне сейчас.
Секс – это не просто телесная утеха. Это барометр. Это язык, на котором двое говорят: «Я хочу тебя. Я выбираю тебя. Ты мой». Когда этот язык забывают – разговор окончен. Остаётся лишь тишина.
И в этой тишине уже слышен похоронный звон.
«Невыносимая легкость бутылки»
Она снова ушла с ней. Опять эти смс: «Не жди, задержусь», опять этот смех в трубку, когда я звонил, опьяневший и беззаботный. А потом – возвращение за полночь, шатающаяся походка, запах вина и дешёвых духов.
– Она же моя подруга, – говорила она наутро, щурясь от солнечного света. – Ты не понимаешь.
Я понимал. Понимал, что эта подруга – её прошлое, тень, которая тянулась из дней, когда меня ещё не было. Они вместе бухали в общаге, смеялись над дурацкими шутками, падали в снег и целовались с незнакомцами. А теперь подруга приходила, как призрак, и уводила её обратно – туда, где я был лишним.
Я пробовал запрещать. Уговаривал, злился, молчал. Но запрет – это дырявая сеть. Она просачивалась сквозь пальцы, снова и снова.
– Ты не заменишь ей подругу, – сказал мне как-то приятель, хмуро размешивая кофе. – Люди не отказываются от чего-то, пока им не предложат что-то лучше.
Я задумался. А что я вообще предлагал? Скучные вечера перед телевизором? Разговоры о работе? Походы в тот же бар, но «только на одну»?
Тогда я купил два билета в горы. Не спросил – просто поставил перед фактом.
– Поехали.
Она удивилась, заколебалась, но села в машину. Три дня мы шли по тропам, спали в палатке, пили чай у костра. Она ворчала, что нет душа, смеялась, когда я упал в ручей, а на вершине, глядя на облака, вдруг сказала:
– Здесь так тихо.
Подруга звонила вечером. Она посмотрела на экран, потом на меня – и сбросила.
Я не обманывался: это не конец истории. Призраки возвращаются. Но, может быть, если я научусь быть не запретом, а выбором – у неё появится куда уходить.
Не от чего – а к кому.
«Содержанка»
Тот разговор врезался в память, буднями его не сотрешь. Сидели мы с Лехой в затемненном зале дорогого ресторана. Он расстегнул манжеты, отпил из бокала, посмотрел на меня поверх золотой оправы.
– Ты вообще понимаешь, что такое содержанка? – спросил он вдруг. Вопрос повис в воздухе, резкий и неуместный. – Это не про то, что она тебя бросит. Это про то, что она не сможет тебя бросить.
Я промолчал. Пережевывал не столько стейк, сколько его слова, искал в них изъян.
– Содержанка – это девушка, которую ты содержишь, – продолжил Леха, растягивая слова, будто объяснял урок несмышленому ребенку. – Ты даёшь ей деньги, крышу над головой, жизнь, которую она сама себе не обеспечит. И она это знает. Поэтому она будет терпеть. Прощать. Делать вид, что всё хорошо.
Он откинулся на спинку стула, довольный. Улыбка его была гладкой и отполированной, как корпус его часов.
– Моя Анжелика – содержанка. И дочь, по сути, тоже. Я их содержу. И знаешь что? У нас отличные отношения.
Я взглянул на него. На его уверенность, купленную и оплаченную. На костюм, сидевший безупречно, и на взгляд, не допускавший сомнений.
– А если она захочет уйти? – выдохнул я вопрос, который сам показался мне наивным.
Леха фыркнул, чуть не поперхнувшись виски.
– Куда? На что? Она же не дура.
Я представил его Анжелику. Высокую, строгую, всегда собранную. С руками, ухоженными до идеала, и с глазами, в которых застыла тихая, никому не нужная печаль. Она редко смеялась громко. Чаще – приглушенно, одними губами.