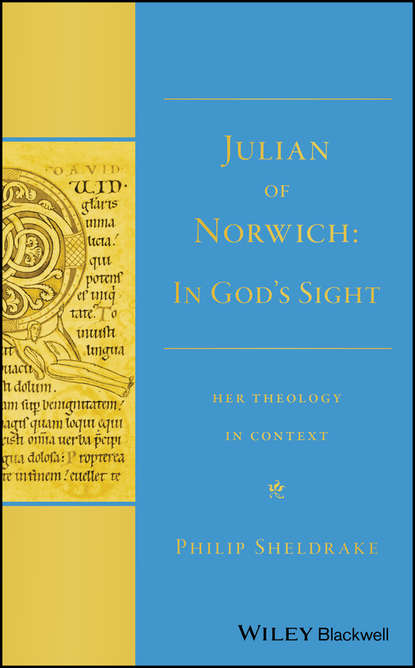- -
- 100%
- +
Элеонора прополоскала ветошь в тазике. В первые годы после революции она была готова к аресту. Примирилась со своей скорой смертью, с тем, что у нее не будет счастья материнства, силы зрелых лет и спокойствия старости. В те годы она готовилась умереть и проживала в своих мечтах жизнь, которой у нее никогда не случится. Но время шло, взбудораженная страна успокаивалась, входила в нормальное русло. Костя вернулся с войны израненным, но живым, и вскоре почти совсем поправился. Они поженились, родился Петр Константинович, такой хороший сын, что порой Элеоноре становилось от этого страшно. Они занимались любимым делом, приносили пользу людям, и казалось, что террор остался позади, в прошлом, а в будущем ждет нормальная, естественная жизнь с простыми человеческими отношениями и справедливым законом. Надежды не оправдались, приходится снова привыкать бояться, а так не хочется… Как же не хочется… Душа и даже тело изо всех сил противятся, желают ходить прямо, дышать полной грудью, не озираться пугливо, не вздрагивать от каждого неосторожного слова…
Элеонора резко тряхнула головой, отгоняя тоскливые мысли, опустилась на крутящуюся табуретку, стоящую возле широкого подоконника, и засмеялась. Пока не арестовали, можно повеселиться над тем, что она теперь навсегда останется в памяти потомков злобной ревнивой женой. Никто не вспомнит о том, как хорошо она работала, каким корифеям подавала на операциях, как усердно внедряла в практику правила асептики и антисептики. Больше она не будет той Элеонорой Воиновой, которая добилась разделения на плановый и экстренный блоки и внедрила много еще разных мелочей, позволивших снизить процент гнойных осложнений. Все, теперь отныне и навек она старая мегера, которая выживает молодых и красивых медсестер за один только нежный взгляд в сторону своего мужа. И никак не оправдаться, разве что Катя объявится и расскажет правду, да и то дамы покачают головами и вздохнут, что так-то оно так, но дыма без огня тоже не бывает. Да, когда на собственной шкуре испытаешь силу людской молвы, поневоле задумаешься, а были ли древние развратники вроде Калигулы и Мессалины такими развратниками, как о них теперь говорят? Или досужая сплетня оказалась приятной людям и оттого прижилась?
С этой мыслью Элеонора решительно встала с табуретки. Хватит философствовать, надо думать, как возвращать доверие коллектива.
* * *Слушая обстоятельную речь профессора Бесенкова, Мура с трудом держала глаза открытыми. К сожалению, она сидела в президиуме, поэтому обязана была не спать, а не только делать вид, что не спит, как большинство в аудитории. Черт возьми, даже зевнуть ей было неприлично.
Хорошо поставленным голосом Бесенков размеренно вещал о том, что только под неусыпной заботой товарища Сталина и благодаря принципам марксизма-ленинизма советская медицина вышла на самые передовые рубежи мировой науки. Больше того, советская медицина самая прогрессивная медицина в мире, ибо служит не жалкой кучке буржуев, а всему советскому народу.
Можно смеяться над напыщенной манерой Бесенкова, но что бесплатная медицина – великое благо и важнейшее завоевание революции, тут никто не станет спорить. Заболел – пошел лечиться, и не надо думать, хватит ли у тебя денег заплатить врачу и аптекарю. Единственное, о чем беспокоишься, – излечима твоя болезнь в принципе или нет. Остались еще нюансы, родимые пятна капитализма, например, денег не надо, но если у тебя нет нужных связей, то к светилу науки ты можешь и не попасть. А можешь и попасть, если случай сложный. Ну да ничего, образование теперь тоже бесплатное и всеобщее, научим детей, воспитаем из них таких докторов, каждый из которых будет не хуже любого нынешнего профессора. Мура улыбнулась, раз уж нельзя зевнуть. Действительно, надо себе почаще напоминать о достижениях советской власти, особенно теперь, когда забирают не пойми за что, а вчерашние лидеры революции сегодня вдруг оборачиваются врагами народа. Да, власть сурова и беспощадна к врагам, которые хотят расшатать ее устои, но простого человека она не бросит в беде. Если заболеет – вылечит, а нет, так осиротевших детей не бросит, выкормит, выучит, выведет в люди. В самом деле, не получилась бы революция, где Мура сейчас бы была? Уж явно не в президиуме бы сидела. В лучшем случае гремела бы ведрами в хирургическом отделении, надраивая полы. А Ниночка бы что делала тогда? Мура задумалась. Начать с того, что при прежнем режиме за инженера Муре бы не светило выйти, Виктор человек культурный, он бы никакого внимания на поломойку не обратил. Влюбился бы в дочку из приличной семьи, в крайнем случае курсистку, а бедной Муре бы пришлось создать скромнейшую пролетарскую семью, где тяжелый, почти непосильный труд, копеечные зарплаты, неграмотность, скуднейший быт, отсюда пьянство, а там и до побоев недалеко. Что ждало бы Нину в такой среде? Безрадостное детство в голоде и страхе перед отцом, из образования – четырехлетка, да и то при удачном стечении обстоятельств, а лет с двенадцати добро пожаловать на работу. К концу отрочества бедная девочка уже устала бы жить. А теперь, слава богу, ей все интересно, потому что все пути открыты. Ей радостно на этом свете, потому что вокруг хорошие люди, учат ее хорошему и, что самое важное, помогут в беде. Пожалуй, это главное, что дает силы жить: уверенность, что ты не останешься одна.
Бесенков тем временем на трибуне откашлялся, попил водички, с важным видом перелистнул страницу и погнал на второй круг. «Хотела бы я так же рубль до зарплаты уметь растянуть, как ты короткий лозунг на часовую речь!» – хмыкнула Мура и задумалась: а есть ли такая уверенность у нее самой? Вступится ли за нее кто-нибудь, если с ней случится беда? Муж, коллеги? Страшно будет правду узнать… Дочь точно ее не оставит, но она еще маленькая. Еще вся жизнь впереди. Наоборот, Мура каждый день собирается попросить Нину, чтобы сразу отреклась от матери, если ее возьмут. Собирается сказать, что честна и чиста перед партией, но ошибки и несправедливые приговоры случаются, и ради победы советской власти можно их терпеть, потому что иначе никак. Если вершить правосудие по-буржуазному, в белых перчатках, то враги совсем ошалеют от безнаказанности и таких дел натворят, что только держись. Проберутся на самый верх да и свергнут советскую власть, и тогда все напрасно, вся борьба, все великие жертвы. И Мура лучше примет незаслуженное наказание, чем будет смотреть, как завоевания революции, которой она посвятила жизнь, идут прахом. Стоит только расслабиться, зазеваться (черт, как же хочется зевнуть), сразу капиталисты и помещики вернут себе власть и опять заграбастают все богатства страны. Правда, из старых почти никого не осталось – или сбежали за кордон, а по большей части расстреляны, ну да ничего, враги из партийной верхушки сами захотят стать капиталистами и помещиками. Когда ты у власти, это хорошо, но когда полновластный хозяин – втройне лучше. Сильное искушение, трудно перед ним устоять, поэтому и выявляется столько врагов в высших эшелонах власти. Как тут, в самом деле, обойтись без перегибов? В белых перчаточках с врагами не совладаешь, и лекарств без побочных эффектов не бывает, но это же не значит, что не надо их принимать. Она готова к незаслуженному клейму врага народа, но дочь не должна от него страдать, поэтому пусть переломит ложную гордость и отречется от матери. Это не предательство, а верность идеалам революции. И Муре в камере будет спокойнее знать, что она не утянула дочь за собою. Вот такой разговор хотела она провести с Ниной, но со дня на день откладывала. Уже и усаживала Нину рядом с собой, уже и воздуху в легкие набирала, а не поворачивался язык. «Надо написать письмо! – вдруг осенило ее при взгляде на бумажки Бесенкова. – Хотя его при обыске изымут… отдать, что ли, Воиновым на сохранение? Но как знать, не подведу ли я их этой просьбой?»
От тревожных мыслей сон отступил, Мура тряхнула головой, клацнула зубами, сдерживая зевок, и решила подумать о чем-нибудь повеселее.
Например, о том, как Бесенков увел жену у Гуревича. Немыслимое дело вообще… Профессор мужчина представительный, дородный, даже красивый, если кому нравятся бетонные статуи, но его очень трудно представить себе в порыве страсти. На донжуана он никак не походит. Человек тяжеловесный, разумно-туповатый, но знающий свою выгоду – разве такие влюбляются? Нет, такие женятся молодыми на девушке, придирчиво выбранной родителями, и живут с ней в мире и спокойствии, благоразумно сторонясь интрижек на стороне. Жена – это крепкий тыл, а не какой-то там объект восхищения.
Профессор – сама добропорядочность, и вдруг на тебе, выкинул такое коленце! Мура усмехнулась и поймала себя на неожиданном чувстве симпатии к этому зануде, в сердце которого купидон предательски выстрелил из-за угла.
А что, интересно, чувствовала жена Гуревича, писаная красавица? Как она решилась оставить подвижника-мужа ради монументального Бесенкова? Мура оглядела зал и нашла в предпоследнем ряду Лазаря Ароновича. Он даже не притворялся бодрствующим, а крепко и самозабвенно спал, уронив голову на грудь. Мура поскорее отвела глаза, будто кто-то мог понять в ее взгляде что-то такое, чего она сама пока не понимала. Оттого, что у них с Гуревичем теперь есть общая тайна, о которой нельзя говорить даже между собой, становилось радостно и тепло. Она покосилась на Стенбока, сидящего в президиуме через одного человека от нее. Он тоже был посвящен в тайну, но это Муру почему-то не волновало.
Муре вдруг сделалось обидно, что она смотрит на Гуревича, а он спит. Может быть, жена ушла от него, потому что он был скучный и невнимательный? Не каждой женщине уютно рядом с подвижником, который целый день работает, а домой приходит только спать. Но все же как это – решиться поменять одного мужа на другого? Муж и жена – плоть едина, не зря это в Библии написано. Браки, конечно, совершаются не на небесах, и бога нет, чтобы соединить мужа и жену священными узами, но врастают люди друг в друга с годами все крепче. Плохие ли, хорошие ли, всякие, вместе живут, вместе меняются, когда счастливы, когда несчастны. Дети общие скрепляют брак, но даже если бог, которого нет, не благословил потомством, все равно общие радости, общие горести… Все равно, разводясь, кусок от себя отрезаешь. От своего уходишь к чужому, трудно, наверное, на такое решиться.
Она бы сама не решилась. Не верит в бога и в церковный брак, но супружество – это супружество. Мама с отцом тоже верили в бога постольку-поскольку, а прожили вместе всю жизнь, несмотря на папину революционную борьбу, дававшую маме миллион поводов разочароваться в супруге и повелителе. Папа терял работу одну за другой, арестовывался, правда, ни разу дело до суда не доходило, пропадал на подозрительных квартирах, хранил дома запрещенную литературу, и вытворял много еще разного, что не приведет в восторг политически незрелую мать семейства. Однако Мура никогда не слышала слова «развод» из маминых уст, и вообще мама ни разу не сказала вслух, что, по ее мнению, папа делает что-то не то. Тогда Мура не совсем понимала еще всех нюансов взрослой жизни, но детским чувствительным нутром улавливала от стриженых барышень из революционного кружка какие-то странные, нехорошие флюиды, и, только когда сама выросла, ей стало ясно, что отец, красивый мужчина в ореоле славы подпольщика, был интересен юным революционеркам именно в романтическом смысле. Но встречных флюидов барышням от него точно не шло. Всегда он был сдержан, вежлив, а иногда нарочито простоват. Скорее всего, он брал с собой на сходки маленькую Муру не для того, чтобы с пеленок приучить ее к революционной борьбе, и даже не для того, чтобы напоить чаем и накормить баранками, когда дома было шаром покати, а в качестве живого щита от кокетства товарок по партии. Пусть он с горем пополам кормил семью, но зато всегда был верен матери и ласков с нею.
Нет идеальных людей, не существует даже таких, которые полностью разделяли бы твое мировоззрение и были бы во всем с тобой согласны. То есть искренне были бы согласны, а не просто поддакивали, чтобы не ссориться. У каждого человека свои мнения, свои привычки, кое в чем удается переубедить, но кое в чем и согласиться самой, а некоторые вещи просто приходится терпеть. Но это вознаграждается доверием и взаимной поддержкой. А если скачешь от одного мужа к другому, то узы просто не успевают окрепнуть, рвутся быстро, и кажется, что легко, но оставляют на сердце кровоточащие раны, которых ты не замечаешь и долго не можешь понять, отчего слабеешь.
Мура поморщилась от собственного ханжества. Раз она такая честная и лучше всех знает, как жить, то почему при виде Гуревича сердце замирает и дрожит, будто ей шестнадцать лет? Он ведь не ее муж, чужой мужчина.
Тут раздался треск аплодисментов, значит, Бесенков наконец закончил.
Мура опомнилась, быстро захлопала в ладоши вместе со всеми. Заметила, как Воинов толкнул спящего Гуревича, тот встрепенулся и заморгал беспомощно, как всякий человек, внезапно разбуженный в незнакомом месте.
Аплодисменты раздражали Муру, казались неуместными во время собраний, тем паче научных конференций, куда эта манера тоже проникла. Овации хороши в театре, а тут они придавали серьезным вещам флер театральности, искусственности. Но ничего не подделаешь, раз принято хлопать, надо хлопать.
Бесенков величественно сошел с трибуны, Мура встала, прямо со своего места поблагодарила докладчика, напомнила аудитории о верности делу Ленина-Сталина и неусыпной бдительности пред лицом врага и закрыла собрание.
Она не собиралась говорить со Стенбоком, но так удачно совпало, что возле двери они оказались вместе, он пропустил ее вперед, и Мура решилась:
– Александр Николаевич, вы к себе? Разрешите на два слова?
Он с холодным недоумением приподнял бровь:
– А вы еще не наговорились? В таком случае милости прошу.
Как всегда, когда она оказывалась у него в кабинете, Муре становилось немного стыдно за тяжеловесную роскошь собственного рабочего места – она всей кожей чувствовала, что роскоши этой не заслужила. Начальник клиник Стенбок и обитал почти под лестницей, и потолок у него был ниже, и мебель попроще, и всякого антиквариата и ковров не наблюдалось, между тем работал он больше и пользы приносил… Не сравнить с Мурой, короче говоря. У нее в кабинете стоит великолепный кожаный диван, а у Стенбока какое-то дерматиновое недоразумение, сразу и не поймешь, то ли лежанка, то ли орудие пыток. И он на этом спит чуть не каждую вторую ночь, а Мура на работе оставалась ночевать, только когда Кирова убили. Как-то несправедливо, неправильно, а начнешь меняться кабинетами, так схлопочешь выговор, ибо положено – пользуйся, и нечего быть святее папы римского.
Стенбок усадил ее на венский стул. Стул слегка качался, но Мура не обратила на это внимания. Она редко общалась с Александром Николаевичем наедине и всякий раз наслаждалась его аристократическими манерами. Выдвинуть для дамы стул, пропустить вперед себя, прочие знаки внимания – все это были выработанные с детства, укоренившиеся в подсознании привычки, не имевшие никакого отношения лично к Муре, и в этом заключалась главная прелесть.
– Итак, Мария Степановна, – холодно улыбнулся Стенбок, усаживаясь напротив нее, – о чем вы хотели бы поговорить после того, как уже украли у меня два часа жизни?
Мура засмеялась, надеясь, что выходит искренне:
– Александр Николаевич, ничего у вас не украли, совсем наоборот.
– Да что вы?
– Время сейчас трудное, страна в кольце врагов, и внешних и внутренних, – Мура надеялась, что в голосе звучит строгость и убеждение, – сами видите, что творят эти гнусные гады, вот Кирова убили, лишь бы сбить нас с верного пути. Поэтому мы все, и коммунисты, и беспартийные, назубок должны знать генеральную линию.
– Н-да?
– Да! Если мы хотим достичь коммунизма, то должны идти в ногу, – сказала Мура и сама поморщилась от сиропного пафоса своих слов.
– Что ж, Мария Степановна, – глаза Стенбока были хмуры и непроницаемы, как весенний лед на Неве, – не буду с вами спорить, однако если мы откроем любой строевой устав, то, к нашему удивлению, выяснится, что на переправах и мостах колонна должна идти именно не в ногу, иначе можно попасть в такой резонанс, что сооружение просто развалится под чеканящими шаг бойцами.
Мура пожала плечами и ничего не ответила, только пожалела, что пришла.
– Время и правда трудное, и путь к светлому будущему еле брезжит во тьме, – сказал Стенбок задумчиво, – на мой непросвещенный взгляд, так надо бы, наоборот, сто раз взвесить и продумать все возможные варианты, но если партийное руководство считает, что в первую очередь следует лишить граждан права на собственное мнение, то, как говорит товарищ Гуревич, кто я такой, чтобы с этим спорить?
– Главное сейчас не сомневаться! – сказала Мура. – Не давать слабину.
– Хорошо, Мария Степановна, не дадим. – Стенбок поморщился, или ей это просто показалось. – Так чем могу служить?
– Я вот о чем хотела бы спросить… – Мура покосилась на приоткрытую дверь, Стенбок встал и захлопнул ее. Лишняя предосторожность: утомленные Бесенковым сотрудники стремительно разбежались по домам, а клинических подразделений в этом закутке не было. Никто не мог подслушать их разговор, ни ретивый сотрудник, ни заблудившийся случайно пациент.
– Вы простите, Александр Николаевич, что вмешиваюсь в ваши семейные дела, – Мура понизила голос, – но вы сообщили в отдел кадров о перемене вашего гражданского состояния?
На холодном лице Стенбока вдруг мелькнула почти человеческая улыбка:
– Так точно, Мария Степановна. С удовольствием рапортовал. Черт возьми, мне нравится если не быть, то слыть женатым человеком.
– Правда?
Он кивнул:
– Да, приятно стать полноценным главой семьи хотя бы на бумаге.
Мура улыбнулась:
– Почему же только на бумаге? Как знать…
Ожившее было лицо снова застыло.
– Оставьте, пожалуйста, – сказал он тихо, – я расписался с Катенькой только потому, что после смерти жены никогда не хотел жениться снова и знаю, что в будущем тоже не захочу. Поэтому мне тяжелы ваши намеки. Ничего не будет и не может быть.
– Простите, – кивнула Мура.
– Я знал, что вы поймете.
– Простите, пожалуйста, – повторила она, – просто я думала, мало ли как жизнь поворачивается.
Стенбок вдруг бросился к своему письменному столу, долго рылся в его тумбе и наконец достал фляжку.
– За жизнь, Мария Степановна?
Она кивнула.
Крышка у фляжки исполняла роль стопки, туда ей Александр Николаевич и налил, а себе взял граненый стакан, одиноко стоявший возле графина с желтоватой водой.
– Ровно, как в аптеке, – сказал он серьезно.
Из стопки пахло осенью и печалью.
– Настоящий коньяк, пейте смело. – Стенбок чокнулся с Мурой, осушил стакан одним глотком и поморщился. Мура выпила не торопясь и не меняясь в лице. Александр Николаевич, глядя на это, с уважением покачал головой.
– Простите еще раз, что я лезу в вашу жизнь, – продолжала она, – но поверьте, это не из праздного любопытства. Видите ли, по академии разнесся миф, будто мы с Воиновой выжили Катю с работы за роман с Константином Георгиевичем.
– Смешно, – хмуро заметил Стенбок.
– А нам с Воиновой так не очень.
– В таком случае приятно будет объявить людям, что в конце концов девушка предпочла все-таки меня. – Стенбок налил по второй.
– Да, доведите, пожалуйста, до коллектива, а то мы с Элеонорой Сергеевной получаемся настоящие ведьмы.
– А вы – нет? Не такие? – Стенбок вдруг засмеялся басовито и бархатисто и сразу оборвал себя. – Впрочем, если серьезно, то я просил начальника отдела кадров пока не афишировать мое семейное положение не от страха, а из простой осторожности. Мало ли что могло произойти… Вы воевали, Мария Степановна, так сами должны знать, что чем меньше у врага информации о вас, тем для вас лучше. Кроме того, когда пожилой человек вдруг женится на юной девушке, это всегда создает кривотолки и неловкость.
Мура отмахнулась:
– Ой, не рисуйте мне тут картину «Неравный брак»! Вам не восемьдесят, а Кате не пятнадцать.
Стенбок снова наполнил ее рюмку, а на нем самом коньяк закончился. Он деловито потряс пустую фляжку над стаканом и со вздохом убрал под стол.
– Мария Степановна, я столько всего повидал, что хватит на все сто лет, а не на восемьдесят.
– Ну начинается! – Мура хотела поделиться с ним остатками, но зачем-то замахнула сама. – Знакомая песня. «А мне возврата нет, я пережил так много…»
– Это романс, Мария Степановна. Слова Белогорской, музыка Прозоровского.
Видимо, коньяк был весьма крепок, потому что Мура вдруг положила руку на ладонь Стенбока и внимательно посмотрела ему в глаза:
– У меня тоже такое было после войны. А потом я поняла, что человеку дается очень мало времени, но зато все что есть – все его. И счастье, знаете ли… оно никому не запрещено.
Александр Николаевич вздохнул и руки не отнял:
– Жаль, коньяк кончился.
– Да, жаль, – согласилась она, – но в подходящий момент.
– Так точно, – Стенбок улыбнулся краешком рта, – что ж, Мария Степановна, вы правы. Пора предать мою женитьбу огласке.
– Спасибо.
– О, не обольщайтесь, Мария Степановна! Я сделаю это не для того, чтобы обелить вашу с Элеонорой Сергеевной репутацию, что, посмотрим правде в глаза, вряд ли возможно.
Мура фыркнула, а по строгому лицу собеседника скользнула тень улыбки.
– Просто Катя написала мне, что хочет вернуться в Ленинград, и в этих обстоятельствах будет разумнее, если я объявлю о нашем браке. Вы правы, рано или поздно правда всплывет на свет божий, а чем дольше мы будем скрывать, тем больше вопросов появится у компетентных органов. Которые, как вы не устаете напоминать, бдят неусыпно, в том числе и по постелям граждан.
– Зачем вы так, Александр Николаевич?
– Простите.
– Ничего.
Мура снова погладила его ладонь, и он снова не отнял.
– Мария Степановна, раз уж зашел у нас с вами такой откровенный разговор… – Стенбок вдруг замялся. – Если вас не затруднит, при случае передайте Кате, чтобы она ни о чем не беспокоилась, наш брак останется фиктивным при любых обстоятельствах.
– Почему вы думаете, что она беспокоится?
Александр Николаевич нахмурился:
– Потому что со стороны наша авантюра выглядит не слишком красиво, и я вполне сознаю, что она имеет право счесть меня негодяем, который завлек невинную девушку в ловушку закона и морального долга.
– Уверена, что у нее такого даже в мыслях не было.
– А могло бы.
– Ну извините.
Стенбок пожал плечами:
– Я бы на ее месте держал в уме этот вариант.
– Я вас знаю уже сто лет, – фыркнула Мура, – вы порядочный человек.
– Как вы можете это знать? – усмехнулся он. – Когда сам человек про себя никогда этого точно знать не может?
Мура отмахнулась:
– А я знаю. И верю вам.
– Благодарю. – Стенбок вдруг засмеялся. – Хотя, конечно, на ее стороне Тамара Петровна с корнцангом… Мощная сила! У любого отобьет охоту безобразничать.
– Вот видите.
– Мария Степановна, если бы вы могли с присущим вам тактом убедить Катеньку, что у нее нет передо мной никаких обязательств и что она может совершенно свободно распоряжаться собой без оглядки на меня, но в то же время всегда может рассчитывать на мою помощь, вы окажете мне этим неоценимую услугу.
Мура кивнула.
– Я в самом деле был рад помочь. И, знаете, товарищ Павлова, наверное, я сейчас слегка пьян, поэтому признаюсь вам, что Господь вознаградил меня за это. После этой формальности я вдруг стал иначе вспоминать о своей жене. Будто перелом, что ли, сросся наконец… Нет, не сумею объяснить.
Она молча заглянула ему в глаза и сразу опустила голову.
– Все эти годы меня терзала боль потери, – продолжал Александр Николаевич, будто сам с собой, – тоска об утраченном счастье, а теперь вдруг стало вспоминаться само счастье…
Мура знала, что на это нечего ответить.
– А я ведь даже не знаю, имею ли я право на радостные воспоминания после того, что было… – Сказав это, Стенбок встал. – Впрочем, Мария Степановна, уже поздно.
Она тоже быстро поднялась, не дожидаясь, пока он поможет отодвинуть стул.
– Да, пора. Спасибо за коньяк, Александр Николаевич.
– Не за что. Вас проводить?
– Ни в коем случае, – для убедительности Мура решительно мотнула головой, – ни в коем случае! Мне через дорогу, и не хочется, откровенно говоря, чтобы нас видели вместе.
– Почему?
– Совсем, скажут, партийное руководство вразнос пошло. Выгоняет с работы медсестер, надирается с начальником клиник… Что дальше-то ждать?
– Резонно. – Стенбок подошел к двери и взялся за ручку. – Пощадим вашу репутацию. И я вас прошу, Мария Степановна, будьте уверены, что с моей стороны вашей подруге ничего не угрожает.
– Какой подруге? – не поняла Мура.
– Как это какой? Катеньке.
– Она мне не подруга.
– А кто?
Мура пожала плечами:
– Никто. Просто медсестра. Попала в трудную ситуацию и пришла за помощью в партком, как, собственно, должен делать каждый советский человек.