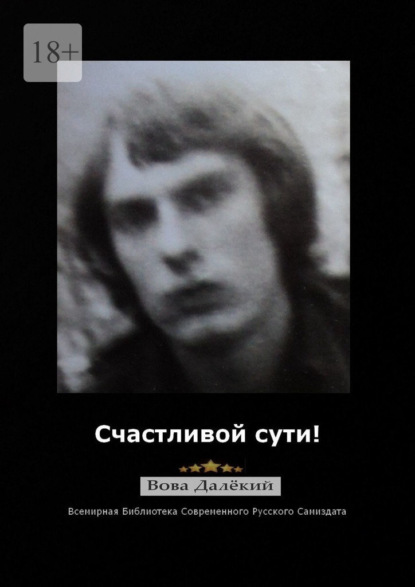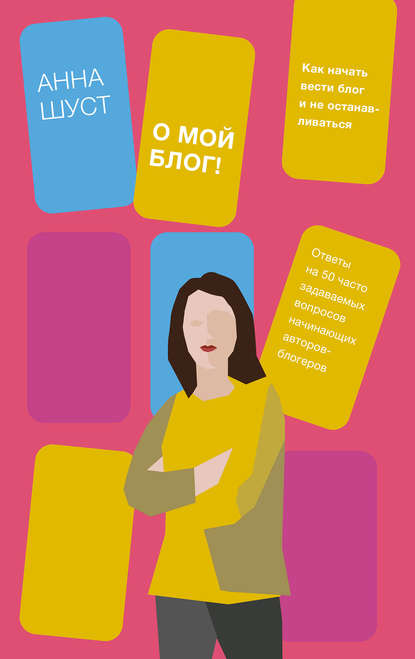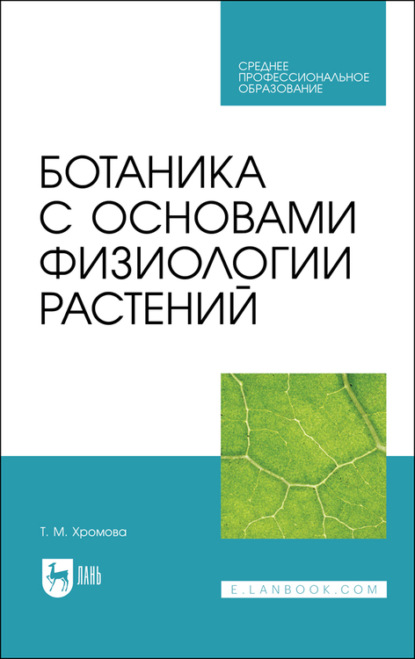- -
- 100%
- +
В Шишовке пускать к себе большую семью беженцев из Боброва, несмотря на жмущий вовсю ноябрьский мороз, никому не хотелось. Скитаясь по селу, пристанище нашли не сразу. Подключилась работница правления. В одном из дворов, хозяйка, как и все, ответила отказом, но представительница властей обратилась к её мужику: «Нельзя так. Не по-людски. Куда же им теперь деваться?». Хозяин не стал противиться, и остепенил жену: «Пускай сгружаются! Неизвестно ещё, может и самим придётся бежать. Так же мыкаться будешь…». На этом всё и решилось. Жили все вместе в небольшой хатёнке. Бобровские перемещенцы, и шишовские хозяева со своей единственной дочерью. За постой они с беженцев денег не брали.
Детей определили на учёбу в местную школу. Но какой может быть учёба при такой, бродяжьей жизни? Мать пошла работать в колхоз, на веялке. Как-то она послала старшую и среднюю дочь за соломой для коровы, в поле. Едва выйдя из деревни и двинувшись к стогам, они услышали завывание и увидели вдалеке волчью стаю. Бежали без оглядки через всё село.
Немного помытарясь с родными в эвакуации местного значения, бабушка вскоре ушла назад, домой. В основном-то, все старики, с самого начала, оставались на местах, как и мамин дед и прадед по отцовской линии.
Ближе к весне и для всех эвакуированных обрисовалась возможность возращения в Бобров. Мать сразу направила наиболее шуструю среднюю дочь к бабушке, договариваться с понтоншиками о перевозке походного имущества в родной Бобров, т.к. колхозной подводы на обратную дорогу уже не полагалось. Разузнав куда ехать и зачем, военные согласились быстро, за шесть вёдер картошки. Но в это время шли какие-то авральные наступательные переброски техники, и нужно было немного переждать, пока грузовики не освободятся от разнарядок по своему прямому армейскому назначению.
Через несколько дней ожидания водитель посадил маленькую «заказчицу» в кабину здоровенного «Студебеккера» и направился в сторону Шишовки. По дороге девочка увидела вдалеке свою, идущую более коротким путём, через заснеженное поле, на Берёзовку и в Бобров, мать: «Стойте, стойте! Вон моя мама идёт!» – закричала она водителю. «Да откуда ты видишь, что это твоя мать?» – засомневался, тормозя, военный шофёр. «Вижу! Это моя мама!». Машина остановилась, и дочь бросилась из кабины за матерью, на ходу стараясь изо всех сил, как можно скорее докричаться до неё. Водитель тоже не переставая отрывисто жал на сигнал, чтобы уходящая путница услышала, оглянулась и поняла, что зовут с дороги и ждут именно её… Дальше ехали уже втроём.
Если при организованном уходе жителей из Боброва в Шишовку, корове пришлось тащиться 20 километров по морозу на привязи за выделенной хозяевам для эвакуации колхозной телегой, то обратный путь она проделала с ветерком, удобно устроенная вместе со всеми и всей беженской кладью в просторном кузове лендлизовского «Студебеккера» военно-инженерных войск Красной Армии, в котором свободно разместилась и ещё одна бобровская семья со всеми своими пожитками, а точнее – семья двоюродной сестры матери, тоже временно квартировавшая в Шишовке.
Картошкой, за доставку, расплачивались дома. Она была при эвакуации присыпана в яме вырытой в погребе, и сверху заставлена пустыми бочками. Т.е. прямо рядом с местом базирования понтонщиков, прямо у них под носом.
Замок на входной двери в хату был сбит. Дед, по линии воюющего на фронте отца, живущий рядом, рассказал, что какие-то транзитные красноармейцы попытались разместиться в закрытой хате. С замком справились легко, но так и не смогли найти задвижку, перекрывающую печной дымоход.
Добросердечного шишовского хозяина тогда же мобилизовали в армию, а демобилизовали сразу после войны, всего больного. Его высадили на Бобровской станции. Он с трудом добрался до бывших своих квартирантов. Мать, по просьбе нежданного гостя, тут же отправила всё ту же свою среднюю дочь в Шишовку сообщить его жене о таком возвращении мужа. Жене дали в колхозе подводу, чтобы привезти больного домой, и, возвращаясь с нею в Бобров, посыльная девчонка-подросток мысленно удивлялась, что лошадьми правит женщина, а не мужчина, и опасалась, как бы не вышло из этого в дороге какой-нибудь катастрофической неприятности.
Оказавшийся же единственным для них самым отзывчивым на чужие беды житель Шишовки, вскоре, после того, как жена привезла его, сама управляя колхозными лошадьми, из Боброва домой, умер.
Большие, как мне тогда казалось, ребята с нашего посёлка придумывали для себя разные рискованные забавы и испытания. Они уходили в расположенный рядом карьер, и, то сооружали там из подручных средств плоты для плавания по огромной глубокой луже, то устраивали ещё более опасное развлечение с полётом над огромным песчаным котлованом. Провода, ещё не действующей высоковольтной линии, проходили очень низко над самым краем обрыва. Оставалось только найти подходящую толстую проволоку и умело её изогнуть. Отойдя подальше от края, проволоку накидывали на провод. Очередной мальчишка крепко брался за неё, разбегался, и, оттолкнувшись от обрыва, летел на ней вперёд, легко скользя надо всем карьером с высоты одного его края на низ другого. Это было впечатляющее зрелище. Но иногда случалось нежелательное: примитивное приспособление застревало вместе с очередным отважным воздухоплавателем где-то на полпути. В таких случаях ничем помочь ему никто не мог. Самоотверженному бедолаге оставалось только, сидя и держась на ржавой загогулине, тянуть время, выслушивая сочувственные подбадривания рЕбзей, всеми терпеливо ждущих исхода под местом возникновения нештатной ситуации, но потом, всё таки, прыгать со всей запредельно небезопасной высоты вниз.
Был ещё и малый полукруг для пролёта над краем карьера, где один из проводов линии, почти что сразу изгибался и возвращался чуть в стороне на тот же самый стартовый край обрыва. Поэтому полёт на проволоке был коротким, но тоже опасным. Мой старший брат, не удержавшись, на лету по этому изгибу, сорвался с подвесного приспособления и упал спиной на песок.
В таких случаях от сильного удара об землю перебивало дыхание, пацан долго не мог встать, двигаться, друзья всячески помогали ему прийти в себя. Не помню, чтобы случались переломы, непоправимые травмы, но не раз покорчиться от сильнейших ушибов после неудачных прыжков и падений с высоты, приходилось, практически, всем малолетним любителям острых ощущений.
Нашему поколению полетать на проводах уже не посчастливилось. Их натянули, как положено, ЛЭП ввели в строй. И от весеннего карьерного водоёма тоже ничего не осталось. На месте большого карьера возникла череда песчаных оврагов, и нам ничего не оставалось делать, кроме как разбегаться и прыгать сразу же вслед друг за другом с какого-нибудь крутого высокого обрыва вниз на песок, быстро отскакивая при преземлении куда-нибудь в сторону из под уже летящего сверху следующего такого же, как ты, «экстремала». Вот и весь полёт. Но «дыхалки» себе, случалось, тоже отбивали.
Потом в нашем карьере, на какое-то время, была устроена сложная трасса для мотокросса, которая использовалась не только для тренировок, но и для проведения соревнований. На пересечённой местности собиралось много зрителей. Гонщики демонстрировали чудеса владения двухколёсной спортивной техникой. Но длилось это не долго. Карьер снова опустел. Но и мы уже заметно повзрослели и единственное, чем он ещё оставался для нас привлекательным, так это, возможностью, зимой, иногда прокатиться там на лыжах. Мой младший двоюродный брат, когда ему было лет четырнадцать, во время такой одиночной лыжной прогулки, соскользнул в обрыв и, при падении вниз, его ноги с лыжами, и часть тела, оказались придавлены снегом. Он сам ничего не мог сделать для того, чтобы выбраться из образовавшейся ловушки. Уже темнело, пальцы рук без потерянных при падении варежек уже не могли шевелиться, и ждать помощи в безлюдной глуши было не от кого. К счастью, с ним была его собака, восточно-европейская овчарка. Она-то его постепенно, каким-то чудом, и вытащила из, вполне возможно, смертельной западни…
Теперь на месте когда-то заброшенного и нами карьера, в его заглаженной низине, находятся невзрачные бескрайние лабиринты обычных гаражных кооперативов.
От Южносахалинского аэропорта нас провели по короткой, далеко открытой с обеих сторон боковой шоссейке, до трассы, соединяющей Южно-Сахалинск и Корсаков, и, переведя через пустоватую самую главную местную дорогу, пропустили прямиком в тут же, при обочине, расположенные ворота, на территорию хомутовской воинской части, где размещался и штаб дивизии. Сюда, на пересыльный пункт доставляли всех прибывающих для продолжения срочной службы на Сахалине или на Курилах, и отсюда же отправляли на материк всех демобилизованных с Сахалинской области. Пересыльный пункт для прибывающих представлял из себя простой физкультурный зал. Вещи и люди размещались прямо на полу. Тут же каждый мог и полежать и принять пищу. Для пропитания, ещё в Хабаровске, нам выделили по несколько банок консервов.
С роты агээсников сюда нас занесло только двоих. К тому же, поскольку мы были из разных взводов, то и знали друг друга разве что лишь в лицо. Поэтому, каждый сам по себе ждал своего дальнейшего назначения. Я хотел на Курилы. Кажется, довольно быстро выкрикнули мою фамилию, и фамилию моего хабаровского сослуживца. Забирал нас, и ещё одного парня с пушками в чёрных петлицах, офицер тоже с пушками на погонах, и в фуражке с чёрным околышем. Он был спокойным, и немногословно мягким в общении с нами. Выяснилось, что мы остаёмся на Сахалине. «А как же Курилы?» – спросил я. «Считайте, что вам повезло. Здесь намного лучше и часть хорошая» – ответил капитан и без лишних команд и равнений, повёл нас через КПП к автобусной остановке.
День был светлый, тёплый, весенний, и со своим спокойным сопровождающим офицером мы спокойно ехали на самом заднем сиденье полупустого рейсового автобуса навстречу ждущей нас впереди полной неизвестности. Я снова подумал, что, видимо, не ошибся, тогда, при виде разнобойно двигавшегося нам навстречу, к аэропорту, строя дембелей, и теперь-то уж, наверняка, сменю красные погоны мотострелка на более предпочтительные чёрные.
Быстро проехали Южный в северном направлении. За окном, в стороне от дороги, и справа и слева, то ближе, то дальше, завиднелись лесистые сопки. Всё вокруг и внутри меня было как-то необычно уравновешенно. И уже, почему-то не нужно было мне зачем-то стремиться ещё дальше, словно именно тут мне и надо было сейчас оказаться и что-то обрести, именно на этом острове, а не на каком-нибудь другом…
Меньше чем через десять лет Советский Союз был разбазарен по частям, а мой малознакомый сослуживец по учебке, с которым мы сразу же скорефанились на Сахалине, стал одним из самых неформальных признанных классиков Русского шансона.
Мой прапрадед, по маминой линии, по линии её отца и по линии её деда, родился, примерно, в 1863 году и скорее всего, там же, в части Боброва, называемой Чукановкой. Его брат жил в отцовской хате. А он по соседству, на этой же улице, в направлении к рядом находящемуся центру города. Их дворы разделял узкий проулок. Потом для его сына, единственного ребёнка в семье, купили следующую соседнюю хату. А потом, и для отца моей мамы (моего деда), купили и ещё одну следующую соседнюю хату, прямо на границе с другой частью Боброва, называемой Смыговкой.
Прапрадед был невысокого роста, шустрый. В дореволюционные времена работал при железной дороге – открывал шлагбаум. Ходил в форме и в форменной фуражке. Слова произносил манерно, чётко.
Брат его жил рядом, одна сестра, после революции оказалась в Америке, а другая, вроде как, подалась в хлыстовки.
В старости прапрадед любил с утра сесть на крылечке, где, сначала, приветствуя всех прохожих, приподнимал картуз и кланялся, а потом откладывал картуз в сторону и только кланялся, помахивая седой бородкой.
В советское время он промышлял тем, что собирал после базара рассыпанное сено и солому, и на тележке отвозил на свой двор, набирая потихоньку стожок, для дальнейшей продажи. Правда, потом, у него стали появляться конкуренты. Ещё он предоставлял хромому липовскому торговцу мелом свой сарайчик, для складирования продукции. Правда, при бомбёжке, в войну, сарайчик разнесло вместе с мелом по всему двору.
Жена его была очень добрая. Высокая ростом. В жаркий день они с ним ставили на крылечке самовар и пили чаёк, когда с мятой, когда с молоком, предусмотрительно закрыв на задвижку дверь со двора. Но дети, живущего через двор внука, прибегали тогда уж, друг за другом не со двора, а с улицы, и получали-таки кусочки сахарку от своих прадедушки с прабабушкой.
Прапрадеду было сподручнее с внуком, чем с сыном. Сын не курил и не выпивал, а взрослый, самостоятельный внук всегда готов был составить своему деду компанию, несмотря на отрицательное отношение к этому своего отца и своей жены. Она сразу видела, с каким прицелом в их хате появлялся дед: «Дед, дед, опять за деньгами пришёл, за водкой?». А он ей: «Ишь ты, всё знаешь», и в сенцы, незаметно семафоря внуку. Тот выйдет вслед, даст денег, дед быстро сбегает за чекушкой и в чуланчике они её тихонечко разопьют.
К старости у прапрабабушки заболели ноги, она не ходила. Вдобавок и глаза перестали видеть. Сын и внук, как могли, помогали старикам. Но и у тех хватало своей тяги к жизни. В первую же, неожиданную бомбёжку, от страха, уже не умеющая ходить и слепая инвалидка стремительно уползла из хаты в соседний огород сына, и там полностью засыпала себя картофельной ботвой. Когда её потом, не без труда, нашли, сын спросил: «Мама! Как ты сюда попала? Что ты тут делала? Зачем ты картошку-то повырывала?». А она отвечала: «Это я, сынок, макировалась».
Умер мой прапрадед тихо, спокойно, на печке, сразу после войны. Сын зашёл к родителям, и мать поинтересовалась у него: «Что-то отца не слышно». Он заглянул на печку, а отец-то умер. С вечера, когда ложился спать, постонал немного и всё.
Её забрала к себе внучка, сестра моего деда. Через несколько лет моя, не сломленная жестокими недугами, прапрабабушка тоже умерла.
У брата моего прапрадеда был сын. Он так и жил в доме своего отца (т.е. в первом маларёвском доме на Чукановке) уже и со своей семьёй – женой, двумя сыновьями и дочерью.
Во время Гражданской войны, его, пряча от «белых», везли на телеге в соломе. Уши настолько забились трухой и пылью, что с тех пор он плохо слышал. Работал он плотником. В доме у него были хорошие полати. Маленькая моя мама раз по десять на дню прибегала к ним в дом, на эти полати. А на доме висел знак «Передовой колхозник». Сын брата моего прапрадеда был сторонником коллективизации. Однако, это не мешало его дружбе с моим дедом, попавшим в колхозники только лишь после нешуточного наезда советских активистов на него и его семью со всем её личным подсобным хозяйством. Но был всё-таки, был случай, когда они, вдруг из-за чего-то повздорив, сцепились, и дед, в скандальной сутолоке, сильно порезал себе руку стеклом. Рана долго потом заживала, как, наверное, и душевные раны обоих.
Во время Отечественной войны плохо слышащего передового колхозника всё равно забрали в армию. Служил он где-то в инженерных или сапёрных войсках, плотничал, наводил мосты. Демобилизовался с задержкой, поскольку строительные части ещё какое-то время и после войны привлекались к восстановительным работам. А дед с войны не вернулся. И его двоюродный дядя, не раз, упорно, ходил в колхоз, хлопотал, чтобы имя племянника внесли на памятник павшим воинам.
Старший его сын поставил себе хату рядом с отцовской, на этом же дворе. В войну он воевал шофёром, на полуторке, а потом работал на бобровском маслозаводе.
Сын дочери (и в дальнейшем жившей в доме отца), комсомольский работник, после успешно свершившейся буржуазной контрреволюции, стал мэром Боброва.
У старшего сына тоже были дети – девочка и мальчик. Мальчишка вырос, стал крепким мужиком. Однажды в очереди за пивом он не пропустил вперёд какую-то шпану. В драке его сильно избили и, в конечном счёте, в результате полученных травм и ушибов он скончался.
А сын младшего сына, тоже отстроившего свою хату на отцовском дворе, с другой стороны от отцовской, стал лётчиком и жил в Юго-Западном микрорайоне в Воронеже, недалеко от военного аэродрома «Балтимор».
Литература и жизнь – бесконечно далёкие друг от друга вещи. Пока труженики науки и технического прогресса мучительно медленно, но поступательно, а потом фантастически быстро и успешно создавали мир реального благоденствия для всего человечества, служители литературы и всех других видов свободной творческой деятельности, с бездумным шизофреническим страстным упорством, посредством целенаправленного эксплуатационного изощрения своих личных талантов и способностей художественно-драматургического толка, всячески изламывали общечеловеческое сознание и волю.
До сей поры всё ещё продолжаются споры вокруг тезиса о смерти искусства. А вот для некого, видимо, достаточно удалённого от закоснелых норм и предубеждений в восприятиях объективного бытия, Созерцателя, это уже безвозвратно пройденный этап в истории развития человечества, и, поэтому, новый вопрос уже наставшей новой реальности, он, бесстрастный наблюдатель и добросовестный потребитель Сущности, формулирует, без какой-либо уже совершенно излишней оглядки на ход, всё ещё формально неоконченного, отстало-исследовательского диспута, следующим, собственным, не общесистемным, неожиданным, но более чем ясным для любого нашего современника образом:
«Почему после смерти искусства жизнь стала ещё прекрасней?».
Полная свобода особенно хороша при способности людей адекватно оценивать происходящее с ними и вокруг них. Всерьёз страдать от не признания широкими массами твоих творческих способностей – это уже психическое расстройство. Но, как не расстраиваться и не страдать, если такой успех и такая популярность, основанные на самых элементарных умозрительных фикциях, возносят человека на небывалые высоты галлюцинационных приходов и охрененных финансовых сверхдоходов. По сути дела, искусство, так же, как религия и политика – до предела извращённые пережитки порочного прошлого. Для окончательного закрепления чудесных результатов человечества, достигнутых только лишь благодаря массовому образованию, просвещению и созидательному труду, и для дальнейшего успешного продвижения по пути непрерывного совершенствования и развития, осталось только отказаться от системы целенаправленных, или застарело привычных, или невольных искажений реальности.
Достаточно ли гуманно ведут себя наши власти по отношению к народу? Скорее всего, вполне достаточно. Особенно, по сравнению с тем, как ведут себя, периодически, люди по отношению к самим себе и во взаимоотношениях друг с другом. Или по сравнению с тем, насколько, зачастую, беспощадно вертят человеческими судьбами силы необъяснимых сверхреалий, или, иногда, силы природных стихий.
Однако, при этом, даже значение мистических явлений – ничто по сравнению с угрозой ядерного или планетарного уничтожения всего человечества. И если от природных катастроф космического масштаба мы пока ещё никак не защищены, то от роковых просчётов и ошибок наших правителей, и нас и их, может уберечь только система разумного прямолинейного управления всеми человеческими потенциалами, безо всяких ссылок на вторичнохудожественные, и церковно-приходские мифологические альтернативы реальному истинно спасительному, цивилизованному и прогрессивному, человеческому бытию.
В 1959 году в декрет моя мама ушла в апреле месяце. Получилось так, что одна наблюдающая врач направила её к другой, а та, пофигистически, немного и промахнулась со сроками, поскольку, по ходу, решая вопрос с пациенткой, была профессионально более сосредоточена на светском разговоре с заглянувшей к ней в гинекологический кабинет знакомой: «Представляешь, вчера в театр ходили, так, у Шкурского уже все причиндалы об колени бьются, а он всё женихов играет…».
Шкурский в областном центре являлся одним из самых известных и именитых актёров. Во всяком случае, и моя, параллельно обследуемая опытной театралкой, мама прекрасно понимала о ком идёт речь. Он не раз, в роли Деда Мороза приходил в детский сад, в котором она работала, на новогодние ёлки. Рослого, и не слишком замысловатого, как всякий успешный провинциальный ловелас, в общении, дети его очень боялись. Поэтому имя его было на слуху не только у гинекологов, но и у воспитателей детских садов. Но именно благодаря особому вниманию к наиболее сокровенным талантам Шкурского со стороны работниц медицинских учреждений, декретный отпуск моей мамы растянулся на целых три месяца. Потом, выписывавшие небывало долгосрочный декретный больничный, медички с юморком давались диву, как такая промашечка могла получиться у настолько бывалой специалистки узкого профиля.
Родился я в субботу в 2 часа дня. «Девочка и чёрненькая» – сказала мама. «Мальчик и беленький» – сказал акушер и похвалил маму: «Молодец, уложилась в короткий день». К тому времени субботние рабочие смены, очередным позитивным постановлением партии и правительства, были частично сокращены. «Как себя чувствуешь?» – спросил он её. «Хорошо. Хочу есть» – ответила она, и ей тут же, по его распоряжению, принесли тарелку борща.
День моего рождения совпадает с днём рождения матери моей мамы и с днём рождения старшего брата моей мамы. Т.е. в каждом из трёх поколений подряд по этой нашей родословной линии кто-то рождался в эту дату. Но узнал я об этом уже значительно позже, как и о том, что это число в церковном календаре отмечается как День иконы Божьей Матери Троеручницы.
И было ещё что-то для меня в моей жизни мистически значимое в том, что в 1980-ом, олимпийском, году, в этот же день июльского календаря, не стало В. Высоцкого. После такой совершенно неожиданной утраты произошёл и какой-то, словно, не совсем мною управляемый, поворот в моей судьбе. Всё вокруг меня и во мне было, в чём-то объективно, в чём-то субъективно, плохо, но именно тогда я и сделал свой первый, как бы, интуитивно верный шаг в, почему-то, нужную мне, для себя и не только для себя, сторону. В декабре я ушёл с пятого курса универа и стал ждать весеннего призыва в армию.
Однажды, ещё до эвакуации, летом, под Бобровом, в воздушном бою был сбит немецкий самолёт. Лётчик приземлился прямо в поле, на котором работали колхозники. Он сразу хотел рвануть мимо растерявшихся баб к посадкам, но ему навстречу пошёл мужик с вилами. Выбора у немца не оставалось, и, к тому же, видимо, ещё имелась вполне реальная возможность выбраться к своим, и он, пустив в ход оружие, застрелил решительно настроенного советского труженика тыла, и устремился к лесополосе. Поймали его военные, подъехавшие из Боброва. Лётчика, сидевшего с опущенной головой в кузове «Студебеккера», провезли полем под охраной автоматчиков, не позволивших потрясённым колхозницам расправиться с пленённым гитлеровцем.
В довоенные годы наиболее активная бобровская ребятня с ранних лет подрабатывала на базаре продажей воды. Мама со своими сёстрами и двоюродным братом тоже не отставали от других. Тётя её, по отцу, жила напротив столовой, практически, рядом с рынком, поэтому воду удобнее всего было брать из тётиного колодца, но случалось, что таскали и из своего, который, потом, в войну обвалился. Покупателей зазывали громкими криками: «Есть холодная вода – три копейки до сыта!».
Никто тогда и подумать не мог, что вскоре уже грянет война, и понарошечный торговый навык очень даже всерьёз пригодится при выживании в условиях едва выносимых всеобщих бедствий и лишений.
После эвакуации, вернувшись из Шишовки, вся многодетная семья, с новым, беженским, опытом и с новыми надеждами сразу втянулась в уже привычную, полуголодную тыловую райцентровскую жизнь. Промышлять приходилось по крохам, с трудом и риском. В товарообмен пошла сохранившаяся, предусмотрительно спрятанная в погребе, картошка. Старшая и средняя (т.е. моя мама, которой тогда было лет тринадцать) сёстры поднимались ранним тёмным морозным утром, часов в пять, взваливали каждая на плечё по два связанных узла с картофаном, и шли вдвоём к станции. Там они встречались с двоюродным братом (маминым годком, будущим порученцем командующего Прибалтийским военным округом) и его сестрой, тоже загруженными такими же узлами. Вместе садились на проходящий в Лиски поезд, составленный из обычных «бычьих» вагонов. Как правило, лавки, расположенные вдоль стен холодной «теплушки», были уже заняты, и новым пассажирам приходилось располагаться прямо на полу. Иногда поезд приходил на саму лискинскую станцию, а иногда останавливался в карьере, и тогда приходилось со всей поклажей слазить из вагона вниз и совершать дополнительный маршбросок до конечного пункта назначения – лискинского базара. Картошка раскупалась быстро. Частично и перекупщицами, которые варили её и тут же продавали из укутанных в платки вёдер. И уже у них, в свою очередь, юные торговцы, неспособные устоять перед соблазном, покупали, по порции на двоих, свою же, но уже варёную и нестерпимо вкусно пахнущую горяченькую картошечку. Но главной целью было закупить в Лисках на все вырученные деньги соли, или спичек, или какой-то самодельной примитивной ткани, привезти домой и потом продать, с выгодой, на своём бобровском рынке.