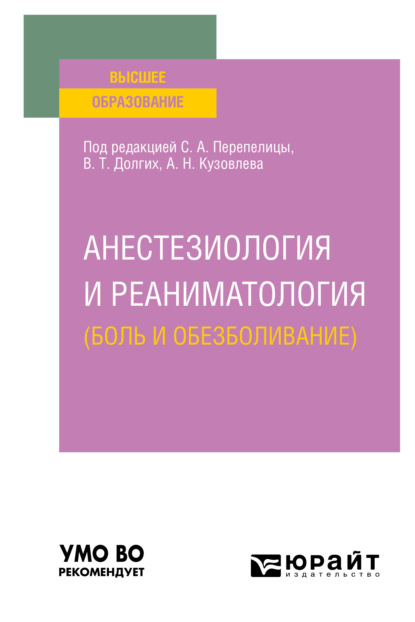- -
- 100%
- +

Дизайнер обложки Мария Дубинина
© Елена Воздвиженская, 2025
© Мария Дубинина, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0068-1147-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1
1955 год.
– Причище-урочище, чудище-страшилище, наречённые да безымянные, дневные, ночные, полуночные… С ветра пришли на ветер уйдите, за леса тёмные, за болота топкие, за моря глыбокие, за поля широкие…
Яркий огонёк пламени вспыхивал на мгновение в потёмках, озаряя бледное пятно лица с бисеринками пота на лбу и над верхней губой, и тут же угасал, с шипением падая в воду и оставляя после себя горьковатый привкус дыма в воздухе. Бабушка с плошкой в руках ходила вокруг табурета, на котором сидел местный парень, Пашка Сивцов, что жил с молодой женой у самого Апрашкина лога, и, приговаривая слова заговора, зажигала спичку за спичкой, бросая их в плошку с водой, где они тут же потухали.
Вода была особая – колодезная, но с добавкой – несколькими каплями из большой бутыли, в которой хранилась «мёртва вода», как называла её бабушка. Была ещё и «жива вода», в другой бутыли. Трогать их Варе запрещалось. «Неча бедолажить, без спросу ничаво не трожь, всяка вещь для чего-то уготована, без пониманья можно и дел натворить». И Варя слушалась бабушку, не трогала, хотя было ей уже двенадцать лет. Сейчас она, сидя на печи, внимательно наблюдала за бабушкиной работой, и с жадностью ловила каждое слово, каждое движение. Она мечтала научиться этой науке и тоже помогать людям. Бабушка казалась ей особенной, кем-то вроде проводника между тем и этим миром. Многое она знала, умела, но не распространялась об этом. Времена нынче не те… Сарафанное радио передаёт о таких людях и их умении из уст в уста, а сами о себе они не рассказывают. Напротив – стараются скрывать способности.
Младенчик на руках у Пашки, его новорожденный сын, получасом ранее изгибавшийся дугой и оравший дурниной до посинения, сейчас уже даже не плакал, а только сипел и стонал, изревевшись до бессилья. Губки его дрожали, на ресничках поблёскивали слезинки, а крохотные ручки и ножки подёргивались. Варя, наблюдавшая с печи, хорошо видела происходящее внизу.
– Всё, всё, дитятко, теперь полегчает тебе, миленькой, – склонилась к дитю бабушка и, набрав в рот воды из той самой плошки, в которой плавали двенадцать спичек, шумно фыркнула прямо в личико младенчику, окатив того брызгами. Вопреки Вариному страху, младенчик не закричал вновь, а напротив – окончательно успокоился, обмяк и тут же уснул. Пашка, молодой отец, неуклюже поправил пелёнку, расстеленную на коленях, прикрыв ею сына. Тот зачмокал губёшками. Бабушка зачерпнула пригоршней воды из плошки и омыла личико младенца, ручки, ножки и грудку.
– Кады проснётся, а спать он будет долго, накорми его, – обернулась бабушка к матери мальчонки.
Аринка сидела в углу и с испугом таращилась на мужа, в глазах её застыли слёзы.
– Хорошо, бабушка, – кивнула она, – А Максимка так плакать больше не станет? Вы его насовсем излечили?
– Коли совета мово послушаешь, дак не станет, – ответила бабушка, – Ты почто пелёнки на ночь во дворе вешала?
– Так как же?… На просушку…
Аринка непонимающе глядела на бабушку, хлопая ресницами.
– Паша-то вот с работы поздно вернулся, а у меня целый таз пелёнок замочен. Я ему Максимку оставила, да сама стирать скорее. Как постирала, развесила во дворе, аккурат, думаю, к утру-то и высохнут. Будет у меня на день запас.
– В другой раз на веранде вешай, али в сенцах, – ответила бабушка, – Вот с теми пелёнками ты и притащила в избу криксу.
– Кого-о-о? – протянула Аришка, – Крысу-у-у?
– Не крысу, а криксу-вараксу, – терпеливо объяснила бабушка, – Эта шушера по ночам рыщут, жильё себе ищут, где детки есть малые, да ишшо некрещёные. Прицепится такая к ребёночку и питается. Сладко ей, хорошо. До того дитё извести может, что то вовсе обессилит, да и помрёт. Опасливо в тёмное время с младенчиком. Глаз да глаз нужен. Оттого и говорят старики: из дому дитё в сумерках не выносить, покуда не окрестили, пелёнки его на ночь во дворе не оставлять, одного в избе без пригляду не бросать, свет на ночь не гасить. А ты сама и притащила в дом сущность поганую.
– Да у нас ведь, бабушка, и нет никого, – вздохнула Аринка, – И подсказать-то некому. У Паши матушка, сама знаешь, померла, когда я ещё Максимушку носила, не дождалась внука, болела шибко. А я и вовсе сирота. В войну все померли. Всё сами, всё одни. Тут корова ещё у нас отелилась, а Паша на работе допоздна. Устала я, закрутилась. А Максимка как начал нынче с утра голосить, так и не остановишь.
– Да что ты, я ить тебя не ругаю, девка, – бабушка ласково погладила Аринку по растрепавшимся волосам, – А науке учу. Знаю я, что нет у вас родных никого. Царствие им небесное. Хороши люди были. А с Максимкой надо было сразу ко мне приходить, не ждать. Сама вон намучилась, и ребёнок изошёл криком. Да ничего, теперь всё наладится. Спать Максимка долго будет, ты его не буди. А как проснётся, грудь дай, накорми. Да окрестите скорее мальчишечку, не тяните.
– Да уж теперь окрестим, – подал голос Пашка, – В Лопатьево съезжу, с отцом Георгием потихоньку договорюсь. Лишь бы Васильев не прознал. А то и билет заберёт, и из колхоза погонит. А я работу свою люблю, я и в армии шоферил. Как нам сейчас без моей зарплаты? Аришка с ребёнком пока дома. Да и подшабашить можно опять же с машиной-то.
Председатель Васильев был ярым коммунистом и строго бдил за всеми «смутными» гражданами, распространяющими или же сами участвующими в религиозной деятельности. И ежели кто был замечен в подобной смуте, то виновных строго наказывал, вынося вопрос на заседании парткома, а при необходимости докладывая и выше.
– Да, нынче снова времена наступили для испытания веры, – вздохнула бабушка, – Только бояться никого не надо. Это нам для укрепления дано. Времена меняются, земные правители тоже, а Бог един, как был, так и остаётся. Вот окрестите Максимушку и не станет к нему всяческая погань приставать. А покуда не окрестили, избу на ночь в потёмках не оставляй, хошь махонька свечечка пущай горит в той комнате, где колыбель у вас. Да под матрасец-то ему подложи веточку рябиновую и чесалку для пряжи. Осталась, поди-ка, от матушки-то?
– Есть, в шкапу у неё так и лежит, – закивала Аринка, – У меня-то пока до вязания руки не доходят.
– Дом у вас стоит на эдаком месте, что начеку следует быть, – бабушка что-то делала руками над плошкой, – Сразу ить за огородом лог начинатся.
– Да не то что за огородом, а прямо в нём, можно сказать, – Пашка покачивал сына, прижав его к груди, тот сладко сопел, намаявшись, – У нас ведь и земля вся под уклон уходит.
– И я о чём, – повторила бабушка, – А на дне лога заросли да вода стоялая, а за логом сразу лес подыматся. Вот и лезет всякое. Ты б, Аришка, вдоль забора-то прошлась и солью обсыпала свой след.
– Какой солью, бабушка?
– Да обычной, с лавки нашей которая. Соль, она любая силу имеет. И тёмные её, ой, как не любят. Да и просто человек дурной, ежели к вам с плохим умыслом пожалует, так ни с чем уйдёт. Либо войти не сможет, либо, коли войдёт, так напакостить не сумеет.
– Спасибо, бабушка, за советы, я всё сделаю, – пообещала Аринка и протянула руки к мужу, – Паша, дай мне.
Муж отдал ей Максимку и молодая мать бережно приняла сына из рук супруга, заключила в объятия, как в надёжную и самую мягкую колыбель.
– Да, – задумчиво проговорила бабушка, – Людей-то много на свете. Не у всякого помыслы добрые. Аккуратнее с людьми надо. Лишний раз о том, что дома деется, не болтайте. Счастьем своим не хвалитесь, и на беды не жалуйтесь. Я на днях к вам загляну, коли не прогоните, посмотрю, что да как.
– Да ты что, бабушка! – воскликнул Пашка и тут же осёкся, скосив глаза на мирно спящего сына, зашептал, – Конечно, заходи, баба Тоня, мы тебе всегда рады. Всё Аришке повеселее, она ведь никуда из дома пока и не выходит.
– Ну, вот и зайду, значит, а теперь умойтесь тоже этой водой, да ступайте с Богом, – ответила бабушка.
Молодые родители по очереди зачерпнули из плошки и омыли лица.
– Вот так. И не утирайтесь. Так и идите.
– Бабушка, а как же нам тебя отблагодарить? – уже на пороге, спохватился, обернувшись, Пашка.
– Об том не переживай, – отмахнулась бабушка, – Придёт время и отблагодаришь.
– Спасибо вам, – снова послышался уже из сеней шёпот Аринки.
– Ступайте с Богом, всё хорошо будет.
Бабушка вернулась в избу, наполовину прикрыв дверь в сенцы:
– Пущай сквознячок гуляет.
Посмотрела на печь:
– А ты чего там притихла? Спускайся, чаю попьём. Скоро и спать уже пора.
Варя кивнула и быстро спрыгнула на пол.
– Бабушка, а эти криксы и ко мне могут прийти? – осторожно поинтересовалась она.
– Нет, они к маленьким только наведываются, не бойся, – бабушка взяла плошку со стола, – Поставь покамест чайник, а я пойду воду на нехожее место вылью.
Она взяла плошку и вышла из избы. Со двора уже веяло прохладой, опускались сумерки, пахло свежей травой и коровьим духом из хлева. Варя поёжилась. Всё ж таки жутковато, хотя и говорит бабушка, что ей криксы не опасны, да кто их знает… Что-то ударило в окно и Варя вскрикнула, но это оказался грач, присевший на подоконник и внимательно следящий чёрным глазом за девочкой.
– Ишь, храбрый какой, прямо в избу летит. Чего тебе? На вот, поешь.
Варя аккуратно бросила за окно кусочек сваренного в обед картофеля и, шугнув птицу, закрыла створки.
Глава 2
Варя шустро сбежала к ручью, звеневшему в неглубоком ложке за околицей. В лицо пахнуло свежестью воды, прохладой, такой желанной в знойный летний день. Ноги тут же облепило комарьё, звенящее высоким дребезжащим писком.
– Тьфу, ироды, – выругалась Варя совсем так же, как это делала бабушка, она и сама не замечала, насколько копирует все её привычки и присказки, – Обед на дворе, а они тут как тут, вам вечор летать положено!
Девочка звонко хлопнула себя по загорелым икрам, отбиваясь от назойливых кровососов, и подошла к воде. Букет полевых цветов, который она держала в руках, Варя положила на влажную, сочную траву, а сама присела на бережке. Ручей будто узнал свою приятельницу, зажурчал громче, радостнее, прибавил ходу. Девочка погрузила ладони в ледяную, кристально-чистую воду. Ручей был нешироким – Варе всего четыре шажка сделать по выступающим из воды скользким камушкам – и она уже на той стороне. Бежал ручей из родника, что бил из-под земли у самого подножия холма, который у них называли горой. Такие холмы окружали их деревню с двух сторон. С третьей стоял высокий лес, стелилась дорога, убегающая сквозь него дальше – в большой и неведомый пока Варе мир. А с четвёртой несла свои воды могучая река. Раньше-то это была махонькая речушка Маламойка, в которой хватало места разве что гусям да уткам побарахтаться, ну ещё пастух водил сюда стадо на водопой, рассказывала бабушка. А после того, как началось строительство ГЭС и крупную реку, от которой брала начало их Маламойка, перекрыли плотиной, изменив ход течения вод, и стала их Маламойка широкой и глубокой. На том берегу раньше ещё деревенька стояла, со странным названием Монашенка, да после того, как уровень воды поднялся, её постигла та же участь, что и множество других, подобных ей – ушла под воду. Монашенкой называлась деревня потому, что в старые времена, когда ещё баба Тоня сама была девчонкой, жили в том месте пришлые женщины, убогие, болезные, вдовы и прочие, которые, не сговариваясь, собрались с разных концов их области на этом клочке земли к останкам старинного, разрушенного монастыря, да и стали тут жить. Нет, монахинями-то они не были, но жили по монастырскому уставу, в нескольких избах, таких же приземистых и древних, как сам монастырь. Устроили церковку – уцелевший придел монастырского храма. Там они и молились. А по воскресеньям приезжал к ним священник из ближайшего села – отец того самого батюшки Георгия, что нынче в Лопатьево, и Литургию служил, причащал «монашенок».
Всё закончилось, когда наступили «страшные времена», так их бабушка называет. К тому времени ряды «монашенок» поредели, старые умирали, а новые не особо рвались сюда, все прятали тогда свою веру, старались быть тише воды, ниже травы. Всем жить хотелось. Тогда-то в одну из ночей раздались с того берега Маламойки выстрелы. На этом берегу люди выскакивали из домов, но быстро поняв, в чём дело – тут же уходили обратно в избы, прятались, боязливо крестясь и сжимаясь в незаметных серых мышей, укрывавшихся под кровом своих нор. Никому не хотелось разделить участь жительниц Монашенки. Наутро стало известно, что священника из Лопатьевки, да ещё дьячка и нескольких прихожан, арестовали и увезли неизвестно куда, а всех женщин из Монашенки расстреляли. Лишь только после обеда, местные тайком пробрались на другой берег Маламойки и похоронили несчастных в общей могиле у древних стен церквушки. В живых осталась только Аська по прозвищу Шлёп-нога, хромоногая и косая на один глаз. В тот момент, когда ночью женщин стали вытаскивать из домов и собирать у стен церкви, она, скудоумная и убогая, каким-то образом догадалась укрыться в печи. То ли сработал инстинкт самосохранения, то ли в критическую минуту случился у Аськи некий проблеск ума, однако, когда мужики уже засыпали земляной холмик, а тени от стен церкви протянулись длинными скорбными дланями до самых берёз, росших поодаль, пошатываясь из стороны в сторону вышло к людям чудо. В исподней сорочке, бывшей когда-то белой, а теперь похожей на робу трубочиста, с измазанным сажей лицом, с растрёпанными седыми волосами, с обезумевшим взглядом – оно остановилось перед свежей насыпью и уставилось на неё. Мужики вздрогнули и выставили вперёд себя лопаты, да после признали в чуде Аську-шлёп-нога. Бабы, читавшие нараспев панихиду, то и дело боязливо оглядывающиеся по сторонам, тут же подхватили её под руки, накинули на плечи платок, принялись утешать, что малое дитя. А Аська подошла к братской могиле, постояла чуток. После засмеялась вдруг, затрясла-замотала головой, ткнула пальцем в стену церквушки:
– Там они!
Мужики даже пошли поглядеть, а ну как ещё кто живой остался. Да нет, все в могиле были. Аська единственной оказалась, кто уцелел. В церквушке всё было раскурочено, перевёрнуто, разграблено. Хоть и бедная это была обитель, а всё ж таки и тут нашлось, что унести, тем, кому вера Христова поперёк горла стояла. Кому помешали эти убогие, тихие женщины, что жили своей жизнью и никому не мешали? Кто дал приказ расстрелять их? Того не узнать. Да тогда это сплошь было, вот и молчали люди. А станешь доискиваться, выступать, так и самого увезут в ночь или же приставят к забору – разговор недолгий. Аську забрали в деревню. Пристроили её на житьё к старухе одной, что жила одиноко. Всей деревней подкармливали, несли кто что. Да только Аська, молодая ещё бабёнка, ей и сорока поди тогда ещё не было, вмиг осунулась после пережитого, скукожилась, постарела лет на двадцать будто. А вскоре и померла, двух лет не прошло. А покуда жива была, всё бегала на тот берег Маламойки, к заброшенной, разграбленной церкви и подолгу сидела там. Когда приходили за ней бабы, уже знающие, где её искать, то она, Аська, противилась, уходить не желала, и всё твердила, что сестрицы живы, тут, де, они, в храме. А не верите – сами послушайте, эва, как поют ангельски. Бабы вслушивались, пытаясь что-то разобрать, но ничего не слышно было под куполом, кроме стона и воя ветра в выбитых окнах, гуляющего по храму. Умерла Аська зимним вечером, когда не уследили за ней люди и вновь она сбегла на тот берег. Нашли её уже поздно, замёрзшая, спала она вечным сном, привалившись к уцелевшему алтарю в стылых стенах храма, и как-то светло и по-детски улыбалась глядящим на неё со стен ликам святых.
Прошло время. Всё поросло быльём. И спустя два десятка лет плотина, изменившая течение большой реки, дабы послужить на пользу стране, принесла сюда великие воды и затопила и пустую Монашенку и обветрившиеся, осыпавшиеся местами, стены храма, скрыв их на глубине. Вот тогда-то, за пять лет до рождения на свет Вари и стали происходить тут странные вещи. Рыбаки, удившие по ночам рыбу, принялись рассказывать о том, что перед самым рассветом, когда едва начинает алеть на востоке небо, доносится откуда-то пение. Стройное такое, красивое, да до того жалостливое, что за душу брало, и слёзы на глаза наворачивались сами собою. Женский хор слаженно и ладно пел будто бы молитву, только слов было не разобрать вовсе. Но самое главное, пение это шло, как сходились во мнении рыбаки, из самой реки. А однажды, Маняша Головцова, отправившаяся на реку с утра пораньше, прополоскать половики, стиранные ею накануне в бане, услыхала звон невидимого колокола. Громко и отчётливо плыл над рекою в рассветном тумане тот звон и замерли волны, и время будто остановилось. Маняша даже половик из рук выпустила. Да так испугалась, что побросала своё тряпьё и бросилась обратно, в деревню.
– Не к добру это, – ответила на её рассказ бабка Нила, которой было уж под девяносто, – Беда будет великая. Монашенки нас предупреждают.
Так и вышло. Не прошло и двух недель, как Маняша услыхала тот звон, началась война… Ушла на фронт почти вся мужская половина их деревни Прокопьевки. В их рядах был и отец Вари. Его призвали в сорок втором, и он даже не успел увидеть свою дочь, которая родилась на свет в сорок третьем. Когда ей исполнился год, на отца принесли похоронку. Мать Вари, вмиг потерявшая веру и надежду, перебралась в избу к своей матери, Антонине, всё легче вместе. От молодой цветущей женщины осталась лишь серая тень. Она, конечно, старалась не опускать руки, жить ради дочери, трудиться на благо Родины и фронта, однако сердце её не выдержало, и в одну из ночей она легла спать, и больше не проснулась. Так любила она своего Стёпушку, отца Вари, что не смогла без него жить. Через месяц страна праздновала Победу, а Варя, двух лет от роду, не понимавшая, куда пропала мама, вступила в новую жизнь – в сиротскую долю…
Однако же, бабушка Тоня, потерявшая на той войне и мужа, и сына, и дочь, устремила все свои силы в воспитание единственной отрады своей, кровиночки и утешения, положила смысл жизни своей в судьбу этой девчушки. Баба Тоня, заменившая Варе и отца и мать, так любила её, что редко когда Варя грустила и тосковала по матери с отцом. Раз в две недели ходили они с бабушкой на погост, на могилку матери, приносили простые конфетки – дунькину радость, пирожки да яичко. Оставляли у креста.
– На помин, – говорила бабушка, – Усопшие придут и насытятся.
– Бабушка, какие усопшие? Вороны всё слопают! – смеялась Варя, слушая причудливые речи бабушки.
– Теми воронами и прилетают на землю души, – объясняла бабушка, – Они любой птицей оборотиться могут. Хошь голубком, хошь воробышком, хошь синичкой. Прилетят к дому, где жили при жизни, заглянут в окошечко, стукнут в раму. Напоминают они эдак-то о себе. В приметы дурные не верь, что к смерти это. Ерунда всё. Надо уметь понимать…
– А ты понимаешь, ба?
– Понимаю кой-чего, – бабушка поднималась с колен, стряхивала с платья крошки, и перевязывала заново платок, – Айда домой. Повидались и будя. Неча лишнего на погосте торчать. Хозяин того не любит. Всему свой срок. Вот погостили мы тут и хватит. Пора и честь знать, не задерживаться.
– А то что будет? – Варе всё было любопытно.
– Заблазниться может, увести на ту сторону, али какая погань привяжется, а то и сам хозяин покажется.
– А он злой?
– А это кому как. Он насквозь видит человека. Ему всё ведомо. Его не проведёшь.
– Ой, а я бы на него взглянула одним глазком! – запрыгала на одной ножке Варя.
– А ну, не мели языком! – прикрикнула бабушка, – Ступай, давай, к калитке.
Варя примолкла, бабушка редко сердилась на неё, и уж коли осерчала, значит за дело. Всю дорогу Варя не проронила ни слова, но в уме-то всё ж таки остались слова бабушки про хозяина кладбища и желание хоть одним глазком поглядеть на него, каков он.
Варя ударила по воде ладошками и сотни солнечных брызг взлетели к небу, окатив девочку ледяным дождём. Она взвизгнула от удовольствия, зачерпнула полную пригоршню и умыла свой жёлтый от пыльцы нос, который она, собирая букет для бабушки, совала в каждый цветок, чтобы понюхать его аромат. Умывшись, Варя подхватила букет, и поспешила домой, чтобы порадовать любимую старушку.
Глава 3
– Ты, Антонина, ведьма, как есть говорю, у тебя, вон, даже кот чёрный, как ведьмам и положено, – услыхала Варя знакомый грубоватый голос, едва открыв калитку.
Девочка, бежавшая вприпрыжку, тут же сбавила шаг и, крадучись, подобралась к крыльцу, спрятавшись сбоку, за кустом сирени и, почти не дыша, прислушалась к беседе.
– А ты Прошку моёво не трожь, – ответствовала бабушка строгим тоном, – Ежели по делу пришёл, так говори, а нет – у меня забот полно, ступай себе.
Варя узнала этот голос, это был председатель, Васильев Григорий Степаныч.
– У меня дел поболе твоего, а всё ж таки, видишь, нашёл время и к тебе заглянуть, проведать, – Васильев усмехнулся, – А ты меня гонишь, Никитишна. Нехорошо…
– Да не из тех ты, Григорий Степаныч, кто без нужды в гости станет заходить, – парировала бабушка, – Чего тебе, говори как есть? Неча зря зубоскалить.
– Видал я давеча, как Пашка с женой от тебя выходили.
– Дак и чаво ж теперь, али и в гости нынче ходить запрещено стало? – голос бабушки раздался над самым ухом, и Варя поняла, что та вышла на крыльцо.
Следом за бесшумной бабушкиной поступью, раздались тяжёлые гулкие шаги – председателевы.
– А ребёнок-то у них как голосил, они вприпрыжку к тебе бежали, а когда от тебя вышли – спал себе ровно ангел. Знать, ты опять своими колдовскими штучками помогла, не иначе. Дуришь людям головы!
– Да ить ты в ангелов-то не веришь, Степаныч? – колко поддела баба Тоня красномордого председателя, – А что успокоить дитё помогла, дак у меня опыта поболе, вот и научила молодых.
– Это я так, для присказки сказал, про ангелов. Ох, и востра ты на язык, Антонина, – недовольно заметил председатель.
– А кого мне бояться? Я под Богом хожу, перед Ним одним за свои дела в ответе.
– Вот об том и хотел я с тобой поговорить, Антонина! – тон председателя вмиг из шутливого стал хрипловатым и жёстким, – Ты чего мне тут пропаганду религиозную разводишь, а? И иконы у тебя в избе висят. Снять надобно срочно!
– Пущай себе висят, мешают они тебе что ли? – бабушка спустилась с крыльца и взяла в руки мотыгу, та звякнула – бабушка прошлась по лезвию точильным бруском.
– Мне-то не мешают, а вот молодёжь к тебе заходят и смотрят, а ты им тут, небось, свои побасенки и агитируешь! Ты мне это дело брось! Я ведь терпеливый, ты меня знаешь, и к тебе с уваженьем – как-никак лучшая труженица ты была в колхозе, военные годы на славу Родине отдала, но и моё терпение не безгранично.
– Я и слов-то таких не знаю, гитация кака-то, – пожала плечами бабушка, а Варя вжалась в стену избы, совсем скрывшись за густой листвой сирени, – А что люди приходят, дак – прогонять мне что ли гостей? Я всем рада.
– И как ты это совмещаешь, удивляюсь я, – Степаныч прихлопнул себя по ляжкам, – И в Бога верить, и ворожить разом?
– Я людям зла не делаю, так каков на мне грех? В огород мне надобно, картоху загребать, Григорий Степаныч, дак я пойду, и ты ступай. Али помочь мне хочешь?
– Смотри у меня, Антонина, ерундой не страдай, и молодые умы мне с толку не сбивай своим Богом да прочей ересью! – Варя увидела, как председатель вынул из кармана пиджака большой клетчатый платок и обтёр своё рябое, и зимой и летом красное, лицо, – А то ведь сообщу, куда следует. А у тебя вон – внучка. Будешь после поклоны бить, да только не Богу, а мне.
Сердце Вари застучало сильнее – что он имеет в виду? Почему так разговаривает с бабушкой? Что она такого сделала?
– Гляди, как бы самому не пришлось мне в ножки кланяться, – неожиданно ответила баба Тоня и Степаныч вздрогнул.
– Ты что это, ведьма эдака, сулишь мне тут? А ну, не каркай!
Бабушка рассмеялась:
– Дак ить ты, Степаныч, в это не веришь!
– Веришь – не веришь, а запугать меня тебе не удастся! Ишь ты, угрозы пошли, – председатель тяжело дышал, и видно было, что он рассержен.
– Да Бог с тобой, какие угрозы, Григорий Степаныч? – бабушка отмахнулась и прошла мимо убежища Вари к калитке в огород.
– Со мной Советы! А не твой божок! Вот где сила! – председатель ударил кулаком по стене избы так, что та гулко застонала, – Я войну прошёл и никакого Бога не видел. Вот, вот что меня спасало – мой кулак и хитрость, а не твой Бог!
– А вот избу-то ты мою не колоти, не заслужила она, матушка того, – Варя услышала, как голос бабушки мгновенно стал холодным, обжигающим.