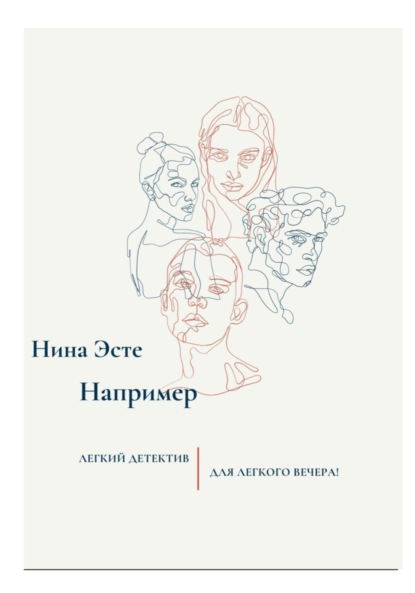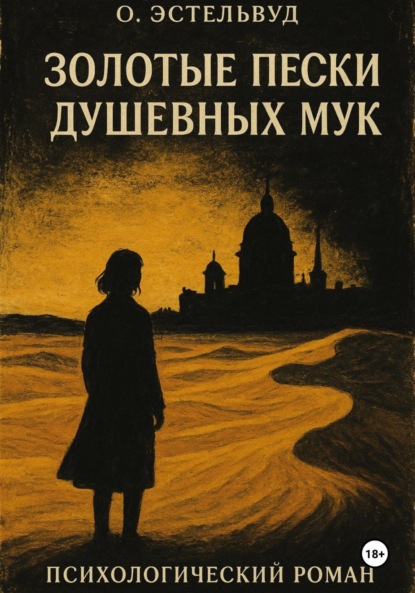- -
- 100%
- +
Степаныч плотоядно облизнул пересохшие от волнения губы и, собравшись для грациозного прыжка, аки лев, выпрыгнул на ту сторону зелёных зарослей. На самом деле, конечно, вывалился он, что мешок с трухой, тряся своим полным животом и сверкая лысиной, да ему то было неведомо. Тут же вскочив на ноги и не мешкая, коварный искуситель ринулся к Надежде. Схватил её за округлые бёдра и повалил в траву, та лишь вскрикнула коротко. Прижавшись всем телом к прекрасной девице, председатель жарко зашептал ей на ухо, прижав к земле:
– Всё, Надюха, добегалась. Теперь моя будешь. Да ты не бойся, я всё, как обещал, сделаю. С работой помогу, и со всем остальным тоже, и…
Он пыхтел, расстёгивая ширинку, которая никак не поддавалась, и одновременно пытаясь удержать Надюху, чтобы та не вырвалась. И потому не сразу понял, что девушка особо и не сопротивляется. Это удивило и обрадовало Васильева.
– Вот и молодец, правильно. Давно бы так. Поняла, наконец, своё счастье.
Плюнув на ширинку, он решил расстегнуть ремень и спустил брюки, дёргая ногами.
– Ну что, Надюха, поцелуемся? – дыхнул он девушке в лицо, всё скрытое длинными спутавшимися волосами.
Освободив одну руку, он отвёл пряди с лица желанной Надежды и тут рассудок чуть не покинул его, потому что…
Это было не лицо Нади, да и вообще это не было лицом человека. Сероватая выпуклая морда, тупоносая, как у налима, пялилась в него круглыми плошками белёсых глаз, в которых напрочь отсутствовали зрачки. Безгубый рот, тонкой щелью растянувшийся от уха до уха в улыбке, обнажал синие дёсна, усеянные двумя рядами мелких, щучьих зубов. Два глубоких отверстия зияли на том месте, где у человека должен быть нос, по щекам, россыпью веснушек блестела пятаками чешуя. Васильев вскрикнул резко и отрывисто, оттолкнул ослабевшими руками лжеНадюху и встав на четвереньки попятился, отползая назад, в спасительные кусты, за которыми стоял его автомобиль. Но спущенные штаны весьма не способствовали сему движению и, путаясь и перекручиваясь промеж ног, норовили сползти ещё ниже, обвиться путами вокруг лодыжек и обезоружить, обездвижить своего хозяина, отдав его во власть существа.
– Т-т-ты кто? – простонал Васильев, глядя на девицу.
Та же, нимало не смутившись, поднялась в полный рост, качнув крутыми бёдрами и, погладив себя по высоким грудям и животу, вдруг оскалилась, зашипела и изо рта её вырвался наружу язык – тонкий и змееподобный, заструился по шее, груди и выстрелил в сторону Васильева, точно так, как ловят лягушки беззаботных комаров на своём болоте. Васильев завопил уже во весь голос.
– Никто тебя не услышит, деревня-то далече, – неожиданно, совершенно приятным, девичьим голоском пропело чудище и направилось к председателю.
– Сгинь! Сгинь! – замахал тот руками и затрясся, предвидя свой близкий конец, – Уйди прочь, погань!
– Вот те раз! «Погань», – обиделась девица, – Сам же приставал. И вообще. Я добро своё потеряла. Вещицу любимую. У тебя она говорят. Нешто не учили тебя мать с отцом, что чужое нехорошо брать?
– Ничего не брал! Ничего не знаю! Чур, чур меня! – голая задница Васильева уткнулась в кусты и острый сук процарапал ягодицу до крови.
Он заорал, вскочил на ноги, и, спотыкаясь да путаясь в штанинах, бросился прочь.
– Сто-о-ой! Стой председатель! Отдай моё! – неслось ему вслед, но Степаныч бежал стрелой и из глаз его летели искры.
Вот и машина! Он влетел в кабину, захлопнул дверцу, и завёл мотор. К счастью тот затарахтел сразу и автомобиль, подняв облако пыли, рванул вперёд. Васильев видел в зеркало, как девица, как есть – голышом – выскочила на дорогу и что-то кричит ему вослед, тряся кулачком. Он летел до самой деревни, и лишь на околице опомнился, что так и едет без штанов. Председатель притормозил, испуганно озираясь, поднял брюки наверх, застегнул и вытер пот с лица. Посмотрел на себя. Из зеркала глянул на него бледный блин с выпученными, как у жабы, глазами.
– Что за чертовщина творится? Неужели Надюха – ведьма, как и Антонина? Или это не она была? Тогда кто же? Или… Да не, не может быть. Сказки это всё. А может того, самого?… Переел я нынче за обедом, вот и померещилось сдуру? Да на жаре… Эва, какая духота стоит. Точно, солнечный удар это.
Председатель выдохнул, посидел ещё немного в кабине, и, выскочив из машины, опрометью кинулся к родным воротам, в спасительные объятия дома.
Глава 7
Звёздная ночь раскинула сиреневый свой палантин с синими полосами и серебряными огоньками над Прокопьевкой. Тихо перелаивались между собой собаки по дворам. Лениво позёвывали в избах кошки, вылизывая и приглаживая шёрстку, готовились ко сну. Запирали двери на ночь хозяева, гася свет, и сонно следуя до постели, чтобы завтра начать новый день. Деревня трудолюбивых и честных уважает. Лентяям здесь почёта нет. Белым наливом выкатилась на небо луна, зацепилась за высокие сосны, повисла на горизонте, меняя свой цвет с бледного на густо-оранжевый, что спелая тыква по осени. Григорий Степаныч отмокал в баньке, сидя на полке и, блаженно смежив веки, наслаждался ароматом разогретого дерева. Буквально нынешней весной обновил он венец, заменив нижние брёвна на новые, и сейчас, когда баню топили, смолка проступала янтарными каплями на их поверхности, источая свежий дух. Рядом со Степанычем стоял ушат с запаренным берёзовым веничком, благоухая и ожидая своей очереди.
– Клавдия на славу истопила, – председатель обтёр мокрое красное лицо, – Ф-ф-ух-х, хорошо-то как. Ну, можно и парку поддать, да веничком похлестаться.
Он поморщился, привалившись на бок, так, чтобы ссадина на ягодице не касалась горячего полка, уж больно её щипало да саднило.
– Чёртова ведьма, – пробормотал он, неизвестно к кому обращаясь, – Уж я тебе устрою!
Степаныч потянулся за ковшом, зачерпнул кипятка и плеснул на камни. Раздалось громкое шипение, а вслед за ним баню заволокло густым белым паром, так, что тусклая лампа в углу превратилась в размытый желток. Степаныч крякнул довольно, выдохнул и внезапно подскочил, ударившись затылком о низкий потолок. Взгляд его прикован был к небольшому окошечку, выходившему в сад. Только что почудилось ему, будто сквозь стекло, прижавшись к нему и расплющившись, заглянул в баню кто-то чужой. То, что это чужой, Степаныч не сомневался, сын уже ушёл на свои обычные гулянки, а Клавдия, накормив мужа ужином, легла спать. Плодовые деревья стояли от баньки поодаль, а потому это не могли быть ветви. Кто же бродил по их саду в ночи? Некоторое время Степаныч посидел, размышляя и слеповато щурясь в сторону окна. Но сейчас лишь лунный свет проникал сквозь него рассеянными в пару лучами, и председатель, успокоившись, повернулся к ушату, и уже протянул, было, руку за веником, когда увидел, что тот исчез. Веника не было ни в ушате, ни на полке. Степаныч растерянно огляделся, нагнулся, опустив голову промеж коленей, и заглянул под полок – веника не было и там. И не успел он ещё озадачиться сей загадочной пропажей, и распрямиться обратно, как ощутил на своей спине хлёсткий влажный удар.
– Ай! – взвизгнул по-поросячьи председатель, больше не от боли, а от неожиданности, и рванул с полка на пол, но это ему не удалось.
Чьи-то холодные, что у покойника, руки прижали его к полку с такой силой, что спёрло дыхание в зобу. Председатель захрипел, пытаясь вывернуться, однако ни один из его приёмов, усвоенных на войне, не возымел на противника никакой силы и тот продолжал удерживать с прежним давлением грузное, дебелое и рыхлое тело Степаныча. Что-то склизкое, ледяное скользнуло рыбиной по его боку и он, скосив глаза увидел женское бедро – сочное и крепкое, однако же, странного, зеленовато-пятнистого, что у сома цвета. Второе бедро опустилось с другой стороны и ноги эти сжали Степаныча мёртвой хваткой. Вспомнив пережитое свежее происшествие и страшную морду «Надюхи», Степаныч взвыл фальцетом так, что мартовские коты, услышь они сейчас его, обзавидовались бы сему гласу, и единогласно признали бы Степаныча своим вождём и хозяином округи:
– Пусти-и-и, убью-у-у!
Мелодичный хохот, прозвучавший в ответ, заставил Степаныча похолодеть, он узнал его. В животе нестерпимо скрутило, в глазах потемнело, кишки запросились наружу вместе с содержимым.
– Пусти, гадина! Ты кто такая? Чего преследуешь меня? – просипел он, скосив глаза не хуже улитки, у коей они расположены на отростках и оттого вольны глядеть, куда им вздумается.
– Отдавай, что взял, Васильев! – пропел сладкий голосок над самым ухом председателя, и лицо обдало рыбным духом. Так пахнут старые рыболовные сети, развешенные на просушку под ветром. Васильев задрожал, пошёл мелкими бисеринками холодного пота, так страшно ему не было даже во время боёв на войне. Там хотя бы знаешь, что на той стороне тоже люди. Да, разные, непохожие на нас, со своим укладом в голове, среди которых есть весьма жестокие личности и лучше погибнуть на поле боя, чем попасть к ним в плен, но… всё же – люди! А то, что встретилось ему нынче у реки, а сейчас скрутило его в бараний рог без малейшего усилия, не было человеком, хотя и весьма походило на него. Но этот запах застоялой воды, это мерзкое скользкое прикосновение налимьего тела – всё говорило о том, что перед ним житель реки или омута. Неужто русалки существуют? Да ну, бред. Он, человек разумный и современный, воспитанный советской властью, не верил и не собирался верить в полоумные бредни выживших из ума стариков да тёмных единиц граждан. Злость закипела в груди.
– Да чтоб тебя! – заорал внезапно председатель, сам испугавшись своей смелости, – Ничего я не брал у тебя, погань фашисткая! Оставь меня в покое! П-шла прочь!
И, собрав все свои силы, он резким движением развернулся, и сбросил с себя гадину. Послышался глухой стук. Девка с рыбьим лицом ударилась о стену, упала на полок.
– А-а-а, так-то, – просипел, ухмыляясь Васильев.
– Какая же я тебе фашистка, Васильев? – пропела девица, – Я тех фашистов в годы войны поболе твоего сгубила, на дно утянула. Хочешь покажу? Сам сосчитаешь, сколько их там лежит.
Но Степаныч уже успел вооружиться первым, что попалось под руку – ковшом с длинной ручкой – и теперь стоял, выставив его вперёд, как пику, и подобно мушкетёру, защищаясь от рыбьей девки. А это точно была она. Уже знакомая морда мелькнула в клубах пара и тут же тварь встала на четвереньки, по-собачьи, и, ощерившись пастью, полной мелких острых зубов, зашипела. Васильев струхнул, однако виду не подал. Потрясая ковшом, он сделал выпад вперёд. Но не попал. Девка ловко увернулась в сторону и змеёй, словно она была без костей, скользнула с полка на пол. Председатель не успел опомниться, как ощутил в районе лодыжки острую жгучую боль.
– Ах, ты ж, падла… кусаться вздумала?! Н-на, получай, – и он с размаху опустил ковш, как ему показалось – на голову твари. Однако, та вновь увернулась, извиваясь гибкой лентой, проползла молниеносно на лавку, находившуюся за спиной председателя и захихикала. Удар ковша пришёлся на его коленную чашечку. Он взвыл и, схватившись за колено, запрыгал на одной ноге, повалился на пол. За спиной раздалось жалостливое цоканье.
– Что ж ты так, Васильев? Не бережёшь себя вовсе. Аккуратнее надо, ай-яй-яй, видишь, ногу вот повредил. Помочь? – девица протянула к нему ладонь, между растопыренными пальцами мехами разошлись перепонки.
– Убери руки! – завопил Степаныч так, что латунные тазы, висящие на гвоздиках, гулко зазвенели.
Хромая и защищаясь ковшом, он попятился к двери, толкнув её пятой точкой, распахнул настежь, попутно снова взвыв от боли в содранной ягодице, и выскочил в предбанник. Девица метнулась за ним, в мгновение ока оказавшись рядом. Огромные, в пол лица, белёсые плошки глаз светились в темноте тусклым, белым светом. Жуткий рот растянулся то ли в плотоядной ухмылке, то ли в довольной улыбке.
– Васильев, добром прошу, отдай то, что взял. Иначе покою не дам, сам топиться придёшь, – оскалилась тварь.
– Вот тебе, дьяволица, крест, – Васильев широким жестом перекрестил девку, в надежде на то, что та сгинет тут же, растворится в клубах пара, вырывающихся из раскрытой в парилку двери, сама станет таким же паром, и улетит облаком прочь. В свою реку, болото, омут или где ещё она там обитает? Но девица лишь расхохоталась ему в лицо:
– Ох, Васильев, Васильев, чтобы нежить изгонять крестным знамением, веру надо иметь. А её у тебя не-ту-ти! Ни грамма! Ты ж ни в Бога, ни в чёрта не веришь. Так что, крест твой для меня что русалке – водоросли! А ну, показывай, куда упрятал мою вещицу?!
Она шагнула на него, прижав к стене. Голый, обезоруженный, израненный, председатель заскулил от боли и унижения:
– Нет у меня ничего. Что хоть ты ищешь-то?
– Веночек мой. Я его для дела вечерком плела. На валуне оставила, чтобы он лунным светом пропитался. А утром – глядь, а его уж и нет. Умыкнул кто-то! Знамо дело кто – ты!
– Да вот те крест, не брал я твоего венка! На кой он мне? – горячо зашептал Степаныч.
– Ты крестами-то не клянись, клятва эта в твоих устах силы не имеет. Ты сам погань, Васильев. Хуже нас. Мы хотя бы не притворяемся, кто есть. А ты двуличный мерзавец в человеческой шкуре. Отдавай венок или сейчас же защекочу до смерти. Чую я, что он у тебя. А найти не могу.
И она сунула ему под рёбра длинные тонкие пальцы, зашерудила ими. Острая боль пронзила грудную клетку насквозь. Вопль прорезал деревенскую тишь. Во дворах забрехали собаки. Вслед за ними, испугавшись, заблеяли овцы, замычали в хлевах коровы, закукарекали раньше времени петухи, встревожились лошади в стойлах.
– Т-ты… ты, – еле выдохнул Васильев, – С петухами того… сгинуть должна. Мне бабка рассказывала.
– Правильно тебе бабка баяла, да только петухи-то не в срок заголосили. А потому они мне не указ, Васильев. Отдавай венок!
– Нет у меня его! Нет! – зарыдал председатель и, невиданным движением, вынырнув из-под руки девицы, рванулся, и, сверкая пятками, поскакал по тропке к дому.
Русалка бежала следом, дыша ему в затылок. Но адреналин гнал Степаныча так, что он забыл и про разбитое колено, и про горящие жаром рёбра, и бежал так, что зайцы в лесу, увидев его в эти минуты, зашлись бы аплодисментами. Бледный голый зад председателя белел в лунном свете, перекатываясь слева-направо, справа-налево. А вопль, рвущийся из его груди, был куда воинственнее клича индейцев, про которых он читал в детстве в книгах.
Взбежав на крыльцо, Васильев влетел в дверь, захлопнул её и судорожно принялся запирать все засовы, а затем ещё и придвинул к выходу старый комод, что стоял тут же, в сенцах, и в котором Клавдия хранила банки. Банки загремели, послышался звон осколков. Из избы выскочила перепуганная жена в сорочке и бигуди. А по деревне стоял такой ор, что проснулись все её жители. Вопли председателя, мычание коров, лай собак, кудахтанье, блеяние и ржание слились в адскую какофонию, переполошив всё кругом.
– Что случилось? – только и выдавила супруга.
– Напали! – тяжело дыша выдохнул Васильев, – Напали на меня.
– Кто?!
– Не знаю. Не видел. Сзади налетели, когда я в бане был. Чуть не убили.
– Надо к Федотову бежать!
– Нет! Не выходи! – заорал председатель, оттаскивая жену от двери, – Завтра сам к нему пойду. Пусть милиция разбирается, что за беспорядки в нашем колхозе развелись.
Он присел на пол, приложил руки к груди. В глазах плясали цветные зайчики, а сердце рвалось уйти и начать новую жизнь, вне его тела.
– Гришенька, не помирай, – засуетилась вокруг него жена, – Да что ж такое-то… Что делать-то… Я сейчас-сейчас…
Она убежала домой за каплями и стаканом воды, а Васильев, прижавшись к комоду, слушал, как с той стороны двери доносится жуткое поскрёбывание и вкрадчивый, едкий шёпот:
– Я до тебя ещё доберусь, председатель. Ты от меня не уйдёшь.
Васильев обнял себя за колени и тихонько завыл.
Глава 8
– За всё тебя, Господи Исусе, благодарю. Вот и ещё один день прошёл, слава тебе.
Варя задумчиво наблюдала, как бабушка молится у икон. Та никогда не заставляла её вставать рядом, не принуждала к молитве. Однако, Варя давно уже выучила их все наизусть. Бабушка читала псалмы по памяти, без книжки. И Варя одними губами повторяла за ней, только рядом вставать отчего-то стеснялась, то ли не ощущала пока потребности в этом. Когда баба Тоня молилась, она становилась совсем другой, какой-то воздушной, нездешней и светлой, и Варя замирала от неописуемого восторга и благости, боясь даже скрипом половой доски потревожить, разрушить это мгновение, и любовалась своей бабушкой. Утром старушка сводила все молитвы к краткому: «Господи, помилуй, благослови нас грешных на день грядущий!». И начинала обычные свои домашние дела. Забот у неё хватало. Варя, конечно, во всём старалась помогать, но так ловко и споро, как у бабушки у неё не выходило. Та будто бы секрет какой-то знала. И ведь, главное, как бы она ни устала, никогда виду не показывала, не жаловалась. А уж вечером бабушка молилась основательно, вдумчиво, с расстановкой.
– Бабушка, – спросила однажды Варя, когда та растирала зимним вечером свои больные ноги, что гудели «к метели» настойкой сирени, – А ты почему всегда такая?
– Какая? – улыбнулась та.
– Ну, вот… тебе же больно сейчас. А ты улыбаешься. Почему?
– А что толку плакать да жаловаться? Эти бестии только того и ждут, когда ты слабину дашь. Вон их сколько всегда рядом с человеком вьётся, рыщут, ищут, где б откусить. А я их вокруг пальца обвожу – я всегда всем довольна и за всё благодарна. Оттого они и уходят от меня голодными, не даю я им напитаться слезами да унынием.
– А кто это – они?
– Знамо кто, лярвы всячески, трясавицы. Они сильного человека боятся. На дух не переносят. А к слабому могут цельной стайкой прилепиться, как вон гнус болотный. Как бы ни было плохо, надо найти в себе силы радоваться, доча. А радость-то всегда можно отыскать, даже в самой неприметной вещице – букашке ли, дождинке, ленточке баской. Вон, к примеру, как красиво вьюга за окном поёт – душевно так, жалостливо, аж душа замирает, слушала бы и слушала.
– Но у тебя же из-за неё ноги и болят, бабусь? – недоумевала Варя.
– Дак ить в том не вьюга виновата, – засмеялась бабушка, – Она своё дело делает – поля да озимые укрывает, деревья лесные укутывает, зверьё в норах согревает под периною… Старается для земельки. А ноги мои больные оттого, что трудилась много, ходила, да в войну сильно заморозила раз, когда в лесу на подводе застряли. Осень была стылая… Слякотная… А в ту ночь заморозки резко ударили. Обувка-то у меня была так себе, вот и обморозила ноги. Распухли они, посинели. Однако ж, сумела я их сохранить, вылечила себя травками да кореньями. Природа она ить нам все лекарства даёт, бери – пользуйся. Только знать надо, что к чему полезное.
Услышав про войну, Варя притихла.
– Чего пригорюнилась, Варюха-горюха? Гляди, налетят хворочи да немочи, прилепятся. А ну-ка, выше нос.
– Бабушка, – Варя замялась, а на глазах её блеснули слёзы, она скользнула взглядом по чёрно-белым фотографиям, что висели в рамке над столом, как самое дорогое сокровище в их избе, – Вот ты говоришь всегда нужно радоваться, во всём искать положительное. А что же вот тут хорошего? Война проклятая у меня и маму и папу забрала, а у тебя и того больше.
Голос Вари дрогнул и слёзки потекли по её щекам, не сдержалась таки, как ни старалась. «Ну вот, теперь и бабушка расстроится, глупая я, и без того у неё ноги болят, ещё я тут воду баламучу», – Варя задержала дыхание, чтобы заглушить рвущиеся из груди всхлипывания. Но бабушка не рассердилась, только глаза её сделались туманными, далёкими. Она погладила внучку по волосам, прижала к себе, укутала ноги шалью.
– А тут радость – что врага мы одолели, милая. Знать, так велико было зло, что пошло на нашу Русь-матушку, что и цена потребовалась за эту победу великая. Несметное число наших воинов полегло в этой битве, а всё ж таки не зря они жизнь отдали. Такой ценой отстояли они наши города и сёла, деревеньки и перелески, избы родные. Родина-то ить у нас одна на всех, а не по кусочку на каждого. Мать она нам родная, дак как же за неё не встать горой? Вот и радуюсь я тому, что таких детей вырастила, за которых мне не стыдно будет, когда помру я, перед Богом встать. Спросит вот Он меня: «Что ж ты, Антонина, молчишь, скажи, как жизнь прожила земную, что доброго сделала?», а я и отвечу, мол, детей, что Ты мне дал, Господи, настоящими людьми воспитала. А иных заслуг и нет у меня. Так что, доча, везде Божий промысел есть, даже в самом горьком горе. Трудно тебе пока это понять. Но придёт время и ты тоже это увидишь. Может быть, жестоко это звучит, и ты пока не сможешь такое сердцем принять, но я так скажу – лучше пусть мои дети погибнут с честью за Отечество, Героями, чем проживут долгую жизнь, как этот оболтус Юрка Васильев.
Бабушка замолчала, потом отмахнулась:
– Ой, грех-то какой баю, дура я старая. Нельзя ни на ком «крест» ставить. Может человек-то и исправится ещё, всяко в жизни бывает. Да и годков ему ещё немного. Есть время одуматься.
– Что-то не верю я, бабушка, что Юрка исправится, – с сомнением хмыкнула Варя.
– Пёс с ним. А нам с тобой есть чем гордиться и ради чего жить. Вон, – бабушка указала кивком головы на портреты, – Как они на нас глядят-то. Так что, нельзя нам унывать, Варюха. Мы и за них и за себя живём. И не знаешь, где они «наши» минуты, а где уже «ихни». Вот эдак-то нюни распустишь, а может это как раз матушкина минутка была. «Вот те раз», – всплеснёт она руками, – «Разве я такая плакса была?».
Варя улыбнулась.
– А расскажи, какая мама была. И про папу расскажи. И про деду с дядей…
И бабушка в который раз принялась сказывать ей о тех, кто зорко следил за ними со стены, завещая быть счастливыми во имя жизни, во имя любви, во имя памяти.
Вот и сейчас Варя в который раз наблюдала за бабушкиной молитвой и размышляла – и как она так умеет, за всё благодарить? Она бы тоже очень хотела научиться такому. Да видно, не так-то легко это даётся. Вдруг в окошко легонько стукнули.
– Кто бы это на ночь глядя? – бабушка отогнула край занавески, – Ба, никак Любаня пришла. Варя, ступай-ко, отвори ворота.
Варя шустро вскочила со стула и помчалась во двор, подгоняемая любопытством. За воротами и правда стояла тётя Люба Баранчикова, что жила в красивом зелёном доме с всегда начищенными до блеска стёклами, восхищавшими Варю. Одно время она даже засомневалась – есть ли вообще там стёкла, или одни рамы? До того они были прозрачными, без единого пятнышка и паутинки.
– Ой, Варюшка, привет. Бабуля дома ли?
– Дома, проходите. Мы уже спать собирались.
– Да… припозднилась я, уж простите.
– Ничего, идёмте в дом. Бабуля уже вас ждёт.
– На-ко, это тебе от меня гостинец, – тётя Люба сунула её в руки корзиночку завязанную полотенцем, из которой умопомрачительно пахло выпечкой так, что Варя, до того клевавшая носом, тут же забыла про сон и у неё потекли слюнки.
– Там ватрушки с творогом, нынче пекла, – пояснила гостья.
– Ох, спасибо, – протянула довольно Варя.
Войдя в избу, тётя Люба первым делом извинилась за столь поздний визит, на что бабушка махнула рукой:
– Коль пришла, значит, нужда была, сказывай, чего стряслось. Ведь не просто так пришла?
– Не просто, – согласилась тётя Люба, присаживаясь на табурет к столу, – Ой, баба Тоня… Как сказать-то не знаю. Да ещё Васильев этот… Караулит всех. Видать, времени много, коли за всеми успевает следить. Вот уж я и дождалась, покуда стемнеет.
– Да не тяни ты, чего оправдываться, говори как есть.
– Дело такое. Хворать я стала. И сама не пойму что болит. Вроде и не болит ничего вовсе, а всё одно – плохо мне. Тоска какая-то разом навалится, усталость, что и сил нет никаких. Утром встаю – будто всю ночь на мне черти воду возили, ещё ничего не сделала, а уж устала. Да и дома ерунда какая-то. На ровном месте то прохудится что-то, то разобьётся, то прольётся, даже вот, как объяснить тебе не знаю, баб Тонь. Серое всё какое-то. Я ведь даже к врачу съездила, в район, проверилась. Всё, говорит, у тебя отлично. Оно, конечно, и, слава Богу. Только что тогда происходит? Волосы у меня клочьями полезли, от косы вон одни куцые кыкыши остались. В зеркало даже глядеться не хочу, кажется мне, будто на меня оттуда старуха какая-то глядит. Уж думала – с ума что ли схожу? Ванька, сынок-то наш, то ногу подвернёт, то с дерева упадёт. Да что ты станешь делать! На работе у моих коровушек надой упал! Васильев премию снял в этом месяце. А ведь я всегда больше всех молока с моими бурёнками колхозу давала! И коровки по-прежнему едят хорошо, и чувствуют себя тоже вроде неплохо, весёленькие, уж я-то вижу. А молока чуть не в два раза меньше стало! И что с чего взялось, ума не приложу. Саня тоже, муж-то мой, нервенный сделался, всё ему не так. Сроду таким не был. Может это того… контузия сказывается? Но как всё остальное объяснить? Вот я думала, думала и решила к тебе идти. Неладно тут что-то. Сердцем чую. А ты в этих делах разбираешься, все знают. Помоги мне, а баба Тоня? Я тебе век благодарна буду.