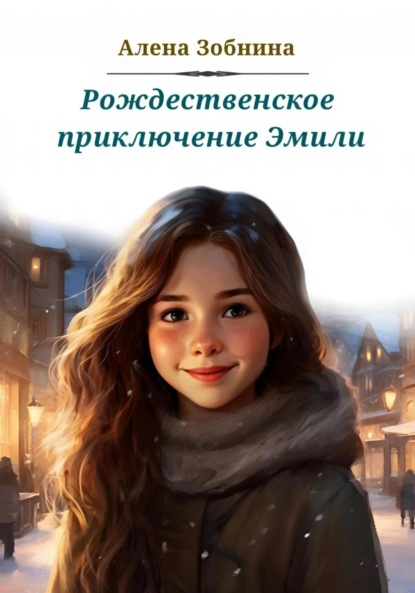Прах Сгоревшего Завтра: Империя

- -
- 100%
- +
– Мне всё равно на вашу эстафету! – сорвался я. Вспыхнувшая ярость на миг была горячее его холода. – Он был… был…
– Моим сыном, – закончил Зальтер. Его взгляд за стёклами очков стал острым и бездонным, как само небо над Теврю. – Со слабостями, страхами, ошибками. И с выбором. Он выбрал стоять до конца в Берлане. Чтобы дать другим время. Чтобы дать время тебе. Теперь твой ход. Ты можешь сломаться здесь, над этой наковальней, и мир этого даже не заметит. Или можешь встать, взять этот кусок металла и выковать из него не просто клинок. А свой ответ. Ему. Им. Всей этой тьме, что считает, что со смертью Дормаса что–то закончилось.
Он сделал шаг ко мне. От него пахло старыми книгами, морозным воздухом и необъяснимой, древней силой. Холод снова пополз по коже, но теперь в нём чувствовалась не враждебность, а… беспощадная ясность.
–Двигайся вперёд, внук. Не потому, что боль уйдёт. Она останется с тобой, как со мной движется мой холод. Но потому, что впереди – твоё место. И сейчас оно пустует.
Он ушёл так же тихо, как и появился, и холод ушёл вместе с ним, оставив после себя лишь привычную теплоту кузницы. А я остался стоять среди углей и железа. И впервые за многие недели в опустошённой пустоте внутри что–то дрогнуло. Не надежда. Не желание мести. Желание мести было слишком жарким, слишком человеческим чувством. Это было холодное, безошибочное понимание. Он был прав. Мир не кончился. Он просто стал другим. Более одиноким. Более жестоким. И в нём больше не было Дормаса, который мог бы меня остановить.
Я закончил косу через неделю. Она не была похожа на прежнюю, крестьянскую. Её лезвие, выкованное из теврийской стали, было длиннее, уже, с идеальным балансом, который я чувствовал каждой клеткой руки. Древко я оплел кожей для уверенного хвата. Это было не орудие труда. Это было орудие войны. Моё орудие.
Ещё два года. Два года целенаправленной, ясной, как небо, подготовки. Я не просто тренировал тело. Я изучал тактику, историю сражений с Негативом, слабые места нечисти. Я превращал свою боль в топливо, свою ярость – в расчёт, а пустоту – в непробиваемую броню сосредоточения.
И вот, в день моего восемнадцатилетия, я стою на причальной платформе Теври. Передо мной, покачиваясь на тёплом ветру, огромный, брюхатый дирижабль «Велирос» шипит паром и готовится к прыжку в небо. В его стальном чреве – путь в столицу. В Академию. К новому фронту.
Я поправляю ремень через плечо, под которым лежит в чехле моя коса. Я не оглядываюсь на город, на кузницу, на могилу, которой здесь нет. Я смотрю вперёд.
Движение вперёд – единственная возможная дань. И единственный вызов, который я могу бросить всему миру. И той парке белых глаз в темноте, которые, я знаю, ждут моего шага.
Глава 3: Стальные небеса
Каюта на «Велиросе» была крохотной, как гроб, но зато своей. Я бросил вещевой мешок на койку, прислонил чехол с косой к стенке. За иллюминатором проплывали серые скалы Теврия, уступая место бескрайнему морю хвойных лесов. Дорога в столицу занимала три дня. Три дня ничем не занятого времени – опасная штука для того, кто привык заглушать мысли работой.
Я вышел в гостевой зал. Пространство, залитое мягким светом праховых ламп, гудело негромкими разговорами. Пассажиры – в основном такие же, как я, абитуриенты Академии, дети чиновников, несколько офицеров в форме. Я пристроился у бара, заказав воду. Смотреть на лица не хотелось.
– Молодой господин Лексобрин?
Я обернулся. Ко мне почтительно склонился стюард в форменной тужурке.
– Вас разыскивала молодая особа. Девушка. Очень настойчиво спрашивала о черноволосом пассажире с… – он слегка замялся, его взгляд непроизвольно скользнул по правой стороне моего лица, – с характерным шрамом.
Я машинально провёл пальцами по длинной чёлке, скрывающей правый глаз. Шрам. Не просто линия. Глубокий, неровный путь, пролегший от середины лба, через веко, и до скулы – памятка о тупом ударе обухом косы четыре года назад. Глаз… глаз выжил, но свет для него померк. Он видел мир в размытых, водянистых силуэтах, лишённых цвета и деталей, как призрачные тени на стене. Чёрно–белое кино в одной глазнице, пока другая видела солнце. Челка и повязка на тренировках стали щитом от лишних вопросов и от собственного, раздражающего искажения реальности.
– Описание? – спросил я, отводя руку ото лба.
– Невысокого роста, фигура… э–э… выразительная. Волосы – огненные, в длинной косе через плечо. Веснушки. И… – он слегка покраснел, – очень яркая, алая нижняя губа. Запомнилась.
Мир на секунду замер. Василиса. Только она могла искать меня по шраму. Она знала, как он появился. Она одна из немногих, кто видел его сразу после, когда повязка была ещё кровавой. В детстве мы звали её «Ягодкой» именно из–за этой губы. Она не накрашена. Это – шрам, памятка. Мы бегали по вишнёвым садам её отца, она оступилась, упала плашмя на корень. Удар пришёлся точно в губу. Она не разбила её, нет. Кровь ушла внутрь, налила тонкую кожу, как витражное стекло, и так и осталась – вечным, ярким пятном, её личной меткой. Она тогда ревела не от боли, а от страха, что останется «уродиной». А я, семилетний дурачок, пытаясь её утешить, сказал, что это красиво. Как спелая вишня.
– Где она? – мой голос прозвучал резче, чем я хотел.
– Кажется, отправилась на смотровую палубу на носу, сэр.
Я не побежал. Но шаг мой стал быстрым и целенаправленным. Сердце, что за годы в Теври я приучил биться ровно и экономно, теперь глухо стучало где–то в горле.
Она стояла у огромного окна, опираясь на латунные поручни, и смотрела на проплывающие внизу облака. Рыжая коса лежала на плече, как полоса пламени на серой униформе Академии. Я остановился в двух шагах. Она обернулась. Веснушки, зелёные глаза, которые широко распахнулись. И та самая губа, что тронулась в улыбке – сначала неуверенной, потом сияющей, солнечной.
–Кристик? Господи, это правда ты?
И всё. Годы растаяли, как те облака за стеклом. Мы говорили обо всём и ни о чём. О Теврии («Какая скука!»), о её учёбе на подготовительных курсах в столице («Папа заставляет зубрить алхимические формулы, я боюсь, мой мозг взорвётся»). О детстве. Она, смеясь, напомнила тот случай с собакой.
– Помнишь того злого цепного пса у кузнеца? Цепь оборвалась, и он рванул прямо на меня. А ты… ты не убежал и не закричал. Ты просто шагнул между нами, подставил руку. Он вцепился тебе в предплечье, а ты другой рукой схватил его за ошейник и прижал к земле, пока не прибежали взрослые. – Её смех стих, взгляд стал серьёзным. – У тебя тогда шрам остался на руке. Глупый. Благородный.
– Я тогда не думал, – признался я, потирая старое, давно зажившее место на левом предплечье. – Просто не мог позволить ей тебя тронуть.
Она посмотрела на меня,и улыбка её стала тише, теплее.
– Ты всегда такой был. Глупый… И благородный…
Мы гуляли по палубам, и мир снова обрёл краски. До тех пор, пока наш путь не преградила кучка громко смеющихся парней в дорогой, но безвкусной одежде. В центре их внимания была девушка. Низкая, стройная, с непривычно острыми, чуть подвижными ушками, торчащими из темных волос с фиолетовым отблеском, и недовольно поджатым ртом. Неко. На её простом платье уже красовался герб Академии – она тоже была абитуриенткой.
– Эй, кис–кис! – гаркнул самый крупный из компании, блондин с наглым, сытым лицом. От Василисы я узнал, что его звали Донган Путилов. Сын аристократа из Имперского «Совета сотни». – А правда, что у вас хвосты отпадают, если сильно дёрнуть? Давай проверим!
Я замер, оценивая обстановку. Глупая драка перед самой Академией… Но я уже сделал шаг вперёд, когда другой мужчина опередил меня.
Он был чуть старше, с спокойным, сильным лицом и коротко стриженными тёмными волосами. На его груди, поверх тёмно–синего камзола, был вышит герб, который я знал по учебникам: серебряный грифон на фоне гор – герб Южногорского Королевства, самого независимого и гордого субъекта Империи. Он не кричал. Он просто встал между Донганом и девушкой, и вся его стать говорила об одном: «Попробуй пройти».
–Шумите потише, – сказал он ровным, низким голосом. – Мешаете даме.
В его тоне не было вызова. Была констатация факта. И этого хватило. Донган что–то буркнул, но его дружки отступили, не желая связываться с южногорцем. Толпа рассеялась.
Незнакомец повернулся сначала к девушке–неко, коротко кивнув: «Всё в порядке?». а потом – ко мне. Его глаза, серые и проницательные, встретились с моими.
–Я видел, ты тоже собирался вступиться. Скай, – он коротко представился, не протягивая руки для пожатия, лишь слегка коснулся пальцами своего герба – жест уважения и представления.
–Кристиан, – откликнулся я.
–Лексобрин. Сын Дормаса. Весть о нём… тяжёлая утрата для всей Империи. Для фронта – невосполнимая.
Василиса в это время уже подошла к смущённой неко, что–то тихо говоря ей. Девушка кивала, бросая на Ская благодарные взгляды. Вскоре Василиса увела её прочь, бросив мне: «Найду тебя позже!»
Мы со Скаем остались вдвоём. Он жестом предложил пройти к иллюминатору.
–Ты следил за фронтом? – спросил он без предисловий.
–Насколько позволяли газеты в Теврии.
Скай усмехнулся, но в усмешке не было веселья.
–Газеты. Они пишут об «отвоёванных территориях», о «стратегических победах». После гибели Дормаса под Берланом они писали о «триумфе воли имперского солдата». – Он посмотрел на меня прямо. – Не верь им на все сто, Кристиан. Я получаю письма от двоюродного брата. Он служит в Северной армии. Там… не так радужно. Да, мы отбиваем города. Но Негатив не отступает. Он сжимается. Концентрируется. Как кулак перед ударом. Газеты же продают успокоение. А нам, простым воинам, нужна не успокоенность. Нужна ясность. И готовность к тому, что победа, если она и будет, будет куплена куда большей ценой, чем пишут в «Вестнике».
Его слова падали, как холодные капли, на только что оттаявшую было душу. В них не было паники. Был трезвый, безжалостный анализ.
–Ты думаешь, они всё врут? – спросил я.
–Не врут. Просто показывают одну сторону медали. А у медали, как известно, их две. А у войны – и все десять. – Он кивнул мне на прощание. – Увидимся в Академии, Лексобрин. Думаю, нам ещё будет о чём поговорить.
Я вернулся в свою каюту. Тёплый след от встречи с Василисой и холодная тень от слов Ская сплелись внутри в странный, тревожный узор. Я смотрел в потолок, слушая гул двигателей «Велироса».
Столица ждала. Академия ждала. И где–то там, за линией фронта, который был не так хорош, как в газетах, сжимался в кулак тот, чьи белые глаза смотрели на мир с презрительной и безумной улыбкой.
Я закрыл глаза, пытаясь заснуть. Но вместо темноты передо мной стояло лицо отца – не с портрета в газете, а живое, усталое, каким я видел его в последний раз. И эхом звучали два голоса: тёплый смех Василисы и холодный, размеренный тон Ская, повторяющий: «Нужна ясность… готовность к большей цене…»
Путь в столицу только начинался.
Глава 4: Товарищи по несчастью
Первый полный день на «Велиросе» принёс неожиданный дар – чувство невесомости. Не ту, что испытываешь от высоты, а внутреннюю. День растворился в смехе Василисы, в её живых, жадных до впечатлений рассказах.
Мы нашли себе убежище на кормовой палубе, за шахтой вентиляции, где рёв пропеллеров превращался в отдалённый шум океана. Она говорила о столице так, будто это была не просто точка на карте, а живое, дышащее чудовище.
– Библиотека Имперского Колледжа, Кристик, – её глаза, зелёные, как лесная трава после дождя, горели. – Она уходит на семь уровней вниз! И на самом нижнем, куда пускают только с разрешения самого Императора, хранятся не просто свитки. Там реликварии. Оружие времён Первого Отпора. Например…
Она сделала драматическую паузу, понизив голос до шепота, полного благоговения.
– …говорят, там в титановом криптере хранится сама Коса Святой Марии. Та самая. За стеклом, в поле стазиса, но… она там.
Слова ударили по мне, как плеть. Коса Святой Марии. Не миф, не картинка в учебнике истории. Реальный артефакт, который можно потрогать. В памяти всплыли строчки из потрёпанной книги «Хроники Первого Отпора», которую я перечитывал в Теврии, пока заживали костяшки на руках.
«Мария из Долины Туманов, прозванная впоследствии Святой, была первой. Когда тьма пришла не в виде тварей, а в виде самосознающей Воли, она не побежала. Она взяла в руки косу – орудие мирного труда – и выстояла. Её вера, её ярость, её жертва закалили сталь, сделав её способной ранить саму суть Негатива. Она не была солдатом. Она стала символом. От её учения, от её тактики мелких, мобильных отрядов, наносящих точечные удары, родились первые охотники – элита, предшественники современных отрядов».
– Ты читала «Хроники Первого Отпора»? – спросил я, и голос мой прозвучал чуть хрипло.
– Конечно! – оживилась Василиса. – Мария… она ведь была не воином. Она была фермершей. И когда всё рухнуло, она не стала молиться. Она сражалась. И выиграла не силой армии, а силой идеи. Что один человек, вооружённый правильной волей и правильным оружием, может изменить всё. Папа говорит, что именно её принципы легли в основу тактики охотников. Малые группы. Скорость. Точечный удар в самое уязвимое место. Не сокрушить массой, а перерезать нерв.
Я кивнул, глядя куда–то поверх её головы, в серую пелену облаков. В голове возник образ: простая женщина в грубой одежде, стоящая против волны первозданного ужаса. И в её руках – не меч, не копьё. Коса. Орудие жатвы, ставшее орудием спасения.
– Интересно, – пробормотал я больше для себя, – как она это чувствовала? Неужели просто вера?
– А может, отчаяние? – тихо сказала Василиса. – Когда за спиной твои дети, твой дом, и отступать некуда… вера и отчаяние – это, по–моему, одно и то же.
Этот образ, этот разговор о легендарном оружии и ещё более легендарной женщине наложился на вчерашние слова Ская о цене победы. Получилась странная, тревожная мозаика: Дормас, Мария, Негатив, газетные сводки, пустая койка в теврийской комнате… и где–то в самом низу столичной библиотеки – та самая коса, как немой вопрос, обращённый ко всем будущим поколениям: «А ты на что способен?»
– А потом я на вступительном по алхимии, – продолжала она, понизив голос до конспиративного шёпота, – сделала то, о чём нам строжайше запрещали даже думать. Синтез нестабильного изомера праха. Без защиты. Ритуал безопасности нарушила в трёх пунктах.
– Василиса…
– Знаю, знаю, безрассудство! – она махнула рукой, и её рыжая коса метнулась, как язычок пламени. – Но когда из колбы вырвалось это… фиолетовое сияние, и все датчики зашкалило… Ох, их лица! Старый профессор Альбано чуть свою бороду не съел от изумления! Папа потом, конечно, отчитывал меня два часа кряду. Но вечером, за ужином, налил мне вина и сказал: «Твоя мать была бы в восторге». – Голос её дрогнул, лишь на секунду. Она быстро отпила из своей кружки.
Я смотрел на неё и думал, как мало она изменилась в главном. Та же неукротимая жажда жизни, тот же огонь, что и в девочке, которая не боялась лазать по самым высоким деревьям.
– Ты всё так же бросаешься в омут с головой, – сказал я, и в голосе моём прозвучало восхищение, которого я не планировал.
– Кто–то должен… – она парировала, бросив на меня лукавый взгляд. – Пока такие, как ты, стоят в стороне и просчитывают последствия.
Её слова задели за живое. Потому что это была правда. Я так и делал. Просчитывал. Взвешивал. Отмерял. Её палец снова потянулся к моей чёлке, на сей раз коснувшись кончиков волос.
– И зачем ты его прячешь? – спросила она тихо. – Это же не позор. Это… знак. Ты выжил.
– Знак глупости, – поправил я, но не отстранился.
– Выжил, – повторила она твёрдо. И в её взгляде не было ни жалости, ни любопытства. Было принятие. Полное и безоговорочное. То самое, ради которого, как я теперь понимал, я и позволил ей найти меня.
Вечер мы провели в тишине, глядя, как далеко внизу зажигаются огоньки редких деревень. Её плечо было тёплой точкой опоры в мире, который слишком долго казался мне холодным и враждебным. Когда она уходила в свою каюту, на прощанье сжав мою руку, я почувствовал, как по коже пробежал давно забытый трепет. Это было опасно. Это было чудесно.
Следующее утро встретило меня не лёгкостью, а напряжённой тишиной. Ская, того самого южногорца, нигде не было видно. Без его сдерживающего, аналитичного присутствия атмосфера на «Велиросе» как будто сгустилась, стала более сырой, более вульгарной. Я искал Василису, но нашёл не её.
В узком служебном коридоре у трюма, куда выходили двери кладовых, снова стояла Элизабет. Её темно–фиолетовые волосы, обычно лежащие гладко, были слегка растрёпаны, а кошачьи уши плотно прижаты к голове. Перед ней, как и вчера, – Донган. Но сегодня в его поведении не было и намёка на игривость. Это была целенаправленная, злая травля.
– Ну что, мяукнула? – его голос, громкий и насмешливый, резал уши. – Или у тебя голосок только на подлизывание к сильным мира сего? Говорят, таких, как вы сейчас на фронт гонят пушечным мясом. Может, и тебя туда же?
Она молчала, сжимая в руках какой–то свёрток – вероятно, свой скудный завтрак, который не успела донести до каюты. Её поза говорила о желании провалиться сквозь пол, но в глазах, золотистых и узких, тлела непогашенная искра сопротивления.
Я уже двинулся вперёд, когда Донган заметил меня. Его сытое, самодовольное лицо озарилось ещё более ехидной ухмылкой.
– О! А вот и наш местный калека! Пришёл защищать свою усатую подружку? – Он оторвался от Элизабет и развернулся ко мне во весь свой немалый рост. – Или хочешь, чтобы и тебя помяли, как папашу? А то, говорят, он там, под Берланом, не геройски пал, а скулил, как щенок, когда Негатив…
Я не дал ему договорить. В ушах зазвенело. Весь холодный расчёт, все уроки Звездова о контроле испарились, сожжённые белой, яростной вспышкой. Отец. Этого слова он не имел права касаться.
– Заткнись, – прорычал я, и голос прозвучал чужим, низким, налитым свинцом ненависти.
Донган только фыркнул. Он был тяжелее, сильнее, увереннее в своей грубой мощи. Мой удар, быстрый, но прямой, он парировал предплечьем, словно отмахиваясь от назойливой мухи, и тут же ответил. Его кулак, тупой и тяжёлый, врезался мне в ребра. Воздух вырвался из лёгких со стоном. Я отлетел к холодной металлической стене, спина просигналила острой болью.
– Ну давай же, сыночек! – Донган наступал, его тень накрывала меня. – Покажи, на что ты способен без папочкиной славы! Может, ещё один шрам заработаешь? Глаз, говоришь, не видит? Да я тебе и второй…
Он занёс руку для нового удара. Я попытался встать в стойку, но тело не слушалось, мир плыл. И в этот миг между нами выросла стена.
Не метафорическая. Самая что ни на есть реальная – в виде широкой спины в простой холщовой рубахе. Это был настоящий громила. Он появился бесшумно, как призрак. Не сказал ни слова. Не издал ни звука. Он просто шагнул вперёд, и его рука, большая, с выступающими костяшками, впилась в грудки Донгана. Не схватила – именно впилась, будто клещами. Донган ахнул, и на его лице мгновенно сместились все эмоции: от злорадства к недоумению, а от него – к животному страху.
Громила не стал его трясти или бить. Он просто развернулся на месте, всем корпусом, и с пугающей, нечеловеческой лёгкостью впечатал Донгана в стальную обшивку стены. Раздался глухой, металлический бом, от которого задрожала переборка. Донган обмяк, его ноги беспомощно повисли в воздухе на пару сантиметров от пола. Он хрипел, пытаясь вдохнуть, глаза вылезали из орбит. Его приспешники замерли, как вкопанные.
– Всё. Хватит. Надоели. – произнёс громила. Его голос был на удивление тихим, глухим, будто доносился из–под земли. В нём не было ни злобы, ни торжества. Только окончательность. Приговор из трёх слов.
Донган, поняв, что любое движение только усилит боль, замер. В его глазах бушевала бессильная ярость, но тело было парализовано страхом и хваткой, ломающей рёбра.
– От…пусти… – выдавил он хрипло.
Ерс смотрел на него ещё несколько долгих секунд, оценивающе, как мастер смотрит на испорченную заготовку. Потом пальцы разжались. Донган рухнул на пол, схватившись за грудь и давясь кашлем. Он швырнул на нас всех взгляд, в котором клятва отомстить смешалась с неискоренимым ужасом, и, пошатываясь, выполз из коридора, увлекая за собой ошеломлённых дружков.
Тишина, наступившая после, была звонкой. Громила медленно обернулся. Сначала к Элизабет. Он смотрел на неё не как на жертву, а как на солдата после боя.
– Нормально? – спросил он. Снова коротко, без лишних слогов. Деловито.
Она выпрямила спину, расправила плечи. На её обычно замкнутом лице промелькнула тень смущения, а затем – странной, неуверенной благодарности. Она потёрла предплечье, где, вероятно, остались следы от толчков.
– Царапин нет, – ответила она, и её голос, обычно резкий и отрывистый, смягчился, стал бархатистым. И тогда… я услышал это. Тихий, глубокий, вибрирующий звук, идущий откуда–то из её грудной клетки. Мурчание. Недолгое, почти невольное. Она тут же спохватилась, прикусила губу и отвернулась, делая вид, что поправляет платье. – Спасибо. Силач.
Громила кивнул, как будто «силач» было его официальным титулом, и принял благодарность как должное. Затем его взгляд, тяжёлый и внимательный, упал на меня. Я к тому времени уже поднялся, опираясь на стену.
– Ребра. Не сломал? – спросил он, кивнув на мою левую руку, которой я инстинктивно прижимал бок.
Я потряс головой, проверяя движения. Больно, но цело.
– Нет. Просто ушиб. Спасибо, что… вмешался.
– Видел. Ты хотел драться. Глупо, – он сделал паузу, и в ней не было осуждения, лишь констатация факта. – Но благородно.
Это «благородно» прогремело во мне громче любой похвалы.
– Меня зовут Кристиан. Кристиан Лексобрин.
– Ерс. Маурис.– отозвался он, и в этом одном слоге было больше весомости, чем в целых тирадах других.
И тут, словно по мановению волшебной палочки, в коридоре появился ещё один человек. Он был поразительно похож на Ерса – те же тёмные, почти чёрные волосы, те же резкие скулы и твёрдый подбородок. Но на этом сходство заканчивалось. Где Ерс был молчаливой скалой, этот человек был живым факелом. Яркие, любопытные глаза, открытое, готовое к улыбке лицо, элегантный, хоть и слегка помятый с дороги, камзол с неброским, но качественным гербом на отвороте.
– И инцидент исчерпан! – провозгласил он, ловко протискиваясь между нами. Он был немного запыхавшимся. – Капитану доложил лично. Объяснил всё как «непреднамеренное столкновение на скользкой палубе во время манёвра». Никаких протоколов, никаких взысканий. Ох, братец, – он хлопнул Ерса по плечу, – когда же ты научишься решать вопросы, не оставляя вмятин в корпусе стоимостью в тысячу рублей? Нам же потом счёт вышлют!
Он обнял брата за плечи одной рукой, а другой уже делал широкий, гостеприимный жест в нашу сторону.
– А я вижу, брат не терял времени даром и завёл новых знакомых! Люциус Маурис, – он поклонился с лёгкой, не лишённой изящества театральности, – весёлый близнец, дипломат по необходимости и вечный уборщик за этим ходячим обвалом, – он ткнул пальцем в Ерса. – Несказанно рад видеть, что на этом летающем острове здравого смысла ещё остались души, способные на благородный, пусть и безрассудный поступок. О, прошу прощения, – он вдруг склонился перед Элизабет с преувеличенной, почти комичной галантностью. – Люциус Маурис, к вашим услугам, миледи…?
– Элизабет, – выпалила она, отступая на полшага, но уголки её губ не выдержали и дрогнули. – Тенебрис. И я не «миледи».
– Тем восхитительнее! – рассмеялся Люциус, и его смех был заразительным, словно звон хрусталя. – Миледи скучны. Они разговаривают о погоде и вышивке. А вы, я чувствую, полны сюрпризов. И, кажется, мой брат уже попал под действие одного из них. – Он многозначительно подмигнул Ерсу, который в ответ лишь поднял одну бровь на миллиметр.
И вот мы стояли впятером в полумраке тесного коридора: я, всё ещё чувствуя жгучую боль в боку и странное облегчение; Василиса, подбежавшая на шум и застывшая сейчас с выражением тревоги, гордости и чего–то ещё, более тёплого, на лице; Элизабет, всё ещё настороженная, но уже не одинокая; молчаливый колосс Ерс, чьё спокойствие было почти осязаемым; и его солнечный двойник Люциус, который одним своим присутствием разрядил остатки напряжения.
Мы не были друзьями. Мы даже не были приятелями. Мы были странной, разношёрстной компанией, случайно столкнувшимся в полутьме против общего, отвратительного врага. В нас не было ничего общего – ни происхождения, ни статуса, ни даже манер. Но в этом узком пространстве, пропахшем маслом и металлом, витало нечто новое. Витала солидарность. Непричесанная, неловкая, родившаяся из гнева, боли и простого человеческого «так нечестно».