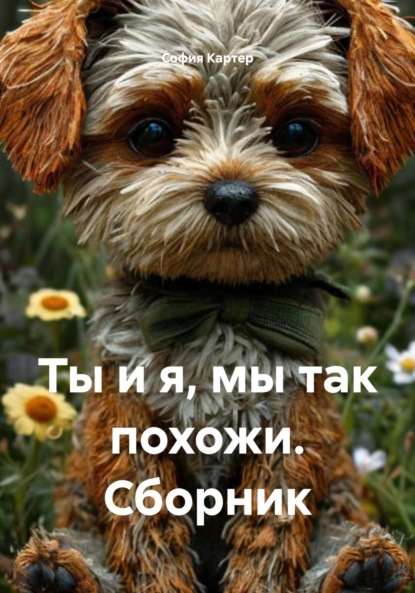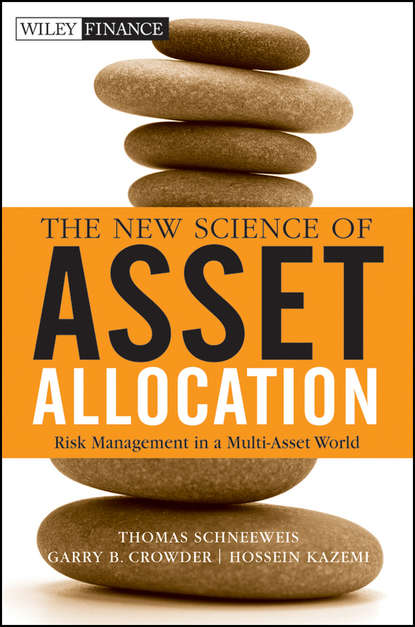Американская мечта таксиста Анатолия

- -
- 100%
- +
Когда он вошел в квартиру так рано, его встретила… тишина. Не просто отсутствие звуков, а какая-то особая, звенящая пустота. И он не услышал привычного, срывающегося на фальцет: «Толя, это ты? Опять с пивом?». Настроение его от этого подскочило еще выше. То ли он так удачно зашел, что мать не услышала, то ли она ушла в магазин, то ли уснула… Его это не волновало. Было тихо. И от этого не становилось тошно, как, бывало, после ее упреков. Наоборот, стало еще веселее, еще вольготнее.
Он, почти по-детски хихикая, быстро разложил свои сокровища на кухонном столе: две бутылки, пачку сигарет, гренки, орехи. Затем, потирая руки, он почти вприпрыжку зашел в свою комнату, предвкушая тот самый, чистый, ничем не омраченный кайф. Он был так близок к своему маленькому счастью, что не замечал ничего вокруг.
Анатолий откупорил бутылку с торжественным шипением. Звук был другим – не сиплым предвестником забвения, а бархатистым вступлением к наслаждению. Он налил темное, почти непрозрачное пиво в чистый стакан – сегодня он нашел для этого силы – и с наслаждением наблюдал, как медленно оседает плотная пенная шапка.
Он включил музыку. Не через телевизор, а через колонки, подключенные к компьютеру. Зазвучал Том Петти, его гнусавый, проникновенный вокал, гитары, бьющие прямо в сердце. И музыка звучала иначе – не как побег от реальности, а как ее звуковой ландшафт. Как будто он не в душной хрущевке, а где-то на шоссе, за рулем своего «Шевроле Импала», и ветер врывается в открытые окна.
Он закурил «Мальборо». Дым был мягче, с ореховым привкусом, без едкой химической горечи. Он не просто курил – он совершал ритуал. Сделал глоток пива – сложный, с нотами карамели и темного хлеба. Затянулся. Взгляд его блуждал по постерам: молодая Миа Фэрроу, суровые лица The Doors, кадр из «Бойцовского клуба». И он воображал. Не просто мечтал, а именно воображал, с полным погружением.
Он не сидел в своем засаленном кресле. Он сидел на веранде своего собственного дома где-нибудь в Северной Каролине. За окном были не пятиэтажки, а сосны и красноватая земля. Воздух, которым он дышал, был не спертым и пыльным, а напоенным ароматом смолы и свежескошенной травы. И солнце, садящееся за его окном, было другим – не тусклым и беспомощным, как всегда, а золотым, густым, заливающим комнату теплым медовым светом, в котором танцевали пылинки, похожие на золотинки.
Он встал, чтобы сходить в туалет, и его ноги несли его легко, в такт музыке. Он даже пританцовывал, покачивая плечами, с сигаретой в зубах. Он не помыл руки – зачем? Это его мир, его правила. Он вернулся в свою комнату, в свой Эдем, и снова погрузился в кресло, в грезу.
И тишина в квартире была ему не врагом, а союзником. Мать так и не было слышно. «Наверное, уснула рано, – с легкой, почти невесомой мыслью подумал он. – Или к соседке ушла. И слава Богу».
Он был абсолютно, безраздельно счастлив. Он наконец-то добрался до своей Америки. Он построил ее здесь, из пива, музыки, сигарет и солнечного света. Он не подозревал, что его Эдем построен на краю бездны, и что один-единственный шаг – в ту самую тихую комнату напротив – навсегда рухнет этот хрупкий, прекрасный мираж, от которого не останется ничего, кроме горького послевкусия.
Так как он взял не много пива, а просто изящного и вкусного, Анатолий не напился. Он насытился. Насытился каждым глотком темного лагера, каждой затяжкой качественного табака, каждой нотой из колонок. Опьянение пришло не тяжелое и оглушающее, как от «Балтики 9», а легкое, парящее, обостряющее чувства.
Когда музыка стихла, а в бутылках осталось лишь по паре церемониальных глотков, он с удивлением осознал, что голова его ясна, а тело просит не забытья, а отдыха. Он потушил последнюю сигарету, заботливо прибрав пепел, чего с ним обычно не бывало, и, погасив свет, лег в кровать.
Лежать было непривычно. Мышцы спины, десятилетиями привыкшие засыпать в полусидячем положении в кресле или в машине, настороженно потянулись. Он ворочался, ища удобную позу, и впервые за долгое время почувствовал, как напряжена его шея, как ноют поясница и плечи. Но это была приятная усталость, усталость не от безысходности, а от – ему даже страшно было подумать это слово – успешно прожитого дня.
Он лежал в темноте, и перед его внутренним взором снова проплывали образы. Только теперь это были не статичные картинки с постеров, а целые сцены. Он представлял, как заводит свой пикап и едет по пустынной дороге навстречу рассвету. Как заходит в захудалый бар, где ему наливают виски, и он перекидывается парой слов с такими же, как он, седыми ковбоями. Как возвращается в свой простой, но свой дом, где его ждет… он не решался додумать до конца, ограничившись лишь смутным, теплым ощущением присутствия кого-то желанного.
Эти грезы были ярче и реальнее, чем когда-либо. Они не были побегом. В этот миг ему казалось, что они – его законное будущее, до которого осталось лишь рукой подать.
С этими мыслями он и уснул. Глубоко, по-настоящему, как не спал много лет. Его дыхание выровнялось, массивное тело наконец-то расслабилось, приняв горизонтальное положение, в котором отдыхают, а не просто отключаются.
Глава 3. Запах
Анатолий проснулся и сразу, еще не открыв глаз, взгрустнул. Хороший день закончился. Начинался новый. Обычный. Серый.
Он потянулся, и тело отозвалось привычной одеревеневшей болью. Взгляд упал на пустую бутылку дорогого пива на тумбочке. Он ткнул в нее пальцем, и она глухо покатилась. Уголок его рта дрогнул в подобии улыбки. Да, вчера было хорошо.
Утро прошло так же, как и всегда. То есть – никак. Он побрел на кухню, и его снова встретил пустой стол. Мать, обычно отходчивая, все еще была обижена. «Ну и ладно, – подумал он с раздражением. – Подумаешь, трагедия. Сама разойдется».
Он хотел уже зайти к ней в комнату, буркнуть что-нибудь вроде «чего дуешься?», но по пути зашел в туалет и уткнулся в телефон. Новости, сообщения в чатах таксистов, цены на бензин… Он забылся, отгородившись экраном от необходимости что-то решать.
Выйдя из туалета, он снова учуял тот самый плохой запах в квартире. Стал сильнее. Гуще. Сладковатый и тяжелый. Анатолий нахмурился. «Опять она, – с досадой подумал он. – Опять поставила мариноваться какой-то новый рецепт. Говорил же, не надо экспериментов, все равно ничего не выйдет».
Он взглянул на время на телефоне и внутренне ахнул. Утренний спрос, «час-пик», когда можно было неплохо подзаработать, уже подходил к концу. Если сейчас не выехать, придется весь день ловить жалкие крохи.
Чувство легкой вины перед матерью и это странное томление в воздухе были мгновенно вытеснены знакомой, жгучей паникой опоздания. Надо было спешить. Деньги сами себя не заработают.
Он наскоро сделал себе бутерброд, запил его водой из-под крана, схватил куртку и ключи. На пороге на секунду задержался, бросив взгляд в сторону материной комнаты. Дверь была приоткрыта, из темноты тянуло тем же тлетворным духом.
– Ладно, потом разберусь, – громко сказал он в пустоту прихожей, больше для самоуспокоения, и вышел, захлопнув дверь.
До обеда у Анатолия была самая что ни на есть рутинная работа. Та, что вымывает душу и стирает в порошок остатки любых, даже самых мимолетных, иллюзий. Он возил сонных офисных работников, хмурых женщин с авоськами из супермаркетов, парней с похмелья. Диалоги сводились к «налево тут», «спасибо» и «сдачи не надо». Оплата – преимущественно картой. Он чувствовал себя не водителем, а частью алгоритма, биороботом, призванным заполнить пробел между точкой А и точкой Б. Каждый километр, каждый поворот баранки напоминал ему: ты на месте. Ты никуда не движешься. Ты – функция.
К обеду голод и привычка привели его к излюбленному ларьку с чебуреками. У входа он увидел дорогую иномарку, а внутри – сцену, от которой у него зашевелились волосы на затылке. У прилавка стояли хорошо одетый мужчина с сыном лет десяти. Мальчик, сияя от гордости, держал в руках пластиковую свинью-копилку с проломленным боком, а кассирша с убитым видом пересчитывала гору монет – пятаков, десятирублевок, двухрублевиков – чтобы обменять их на «крупную валюту».
«Вот черт, – мысленно выругался Анатолий. – Стоять тут теперь полдня из-за какого-то сопляка».
Мужчина обернулся на скрип двери, и его взгляд задержался на Анатолии. В глазах мелькнуло неуверенное узнавание.
– Толя? Анатолий? Это ты?
Анатолий вгляделся. Черты лица, голос… Из-за наслоений лет и благополучия проступало что-то знакомое.
– Олег? – нерешительно буркнул он.
– Точно! – Олег радостно хлопнул его по плечу. – Одноклассники!
Анатолий почувствовал, как сжимается внутри. Олег не выглядел… на свои годы. Возможно, на тридцать пять, не больше. Подтянутый, в хорошей куртке, с ясным взглядом. Рядом с ним, немытым, в засаленной одежде, с лицом, изборожденным морщинами и прожилками, Анатолий казался себе его отцом, а то и дедом. Никто бы со стороны не сказал, что они ровесники.
Пока кассирша с мученическим видом продолжала считать мелочь, они заговорили. Олег, сияя, похвастался:
– Ваньку моего, старшего, в Америку отправил! Учиться. В Массачусетс, представляешь? – Он вздохнул, но в глазах читалась гордость. – Правда, на платное место взяли. Теперь, брат, мне не поздоровится – влезу в долги, но для ребенка ничего не жалко.
Анатолий знал, что Олег прибедняется. У него свой бизнес был, всегда дела шли неплохо. Но эти слова – «в Америку», «Массачусетс», «учиться» – вонзились в него как ножи. Он смотрел на этого мальчика, с таким упоением наблюдавшего за подсчетом своих сокровищ, и представлял такого же, только постарше там, в том самом мифическом Массачусетсе, куда он сам мечтал просто приехать и подметать улицы. А этому пацану все двери были открыты с пеленок. Заботливый, успешный отец купил ему билет в жизнь, о которой Анатолий лишь тщетно грезил.
Они поговорили еще несколько минут – о пустом, о былом. Анатолий мычал что-то невразумительное, чувствуя, как жар стыда и зависти разливается по его щекам. Наконец, сделка с копилкой была завершена, и Олег с сыном, весело щебеча, ушли.
Анатолий купил свои чебуреки и кофе, но есть уже не хотелось. Он сидел в машине, и комок в горле не проглатывался. Он снова почувствовал себя ничтожеством. Грязным, неудачливым, старым. Его собственная мечта, по сравнению с реализованной мечтой Олега-младшего, казалась жалкой, убогой и несбыточной.
«Олег копит на мечту сына, а я – на свой гроб», – горько подумал он. С его-то доходами, с вечными поломками машины, которая высасывала последние соки, отложить удавалось сущие крохи. За годы ему удалось скопить лишь на билет в один конец. А на жизнь там, на первое время, не было вообще ничего. Америка снова отдалилась, превратившись из заветной цели в насмешку, в привилегию для таких, как сын Олега.
Он завел машину и поехал, не видя дороги. В ушах стоял не голос Лу Рида, а навязчивый, ядовитый шепот: «Ты ничего не стоишь. Ты никуда не годишься. Ты опоздал. Навсегда».
Анатолий до конца смены работал с каменным лицом и свинцом на душе. Его и так невысокий рейтинг в приложении падал стремительно, как температура за окном в зимнюю ночь. Он курил, не спрашивая разрешения пассажиров, на их робкие «здравствуйте» отвечал невнятным мычанием, а на просьбы свернуть или притормозить реагировал с таким раздражением, будто его просили отдать почку. Каждая поездка была пыткой, и он с наслаждением делал палачами своих клиентов.
После смены он не думал о пиве. Пиво – это для наслаждения, для гурманов, для тех, у кого есть повод. Даже «Балтика 9» – та была для другого, для тяжелого, но все-таки забвения, а не самоуничтожения. Сегодня требовалось что-то сильнее. Что-то, что выжжет изнутри всю эту гниль, стыд и зависть.
Он зашел в магазин и купил самую дешевую водку, батон серого хлеба и банку кильки в томате. Экономно, но эффективно.
Пришел домой. Криков, упреков, да и просто звуков – опять не было. Тишина. Он вошел, бросил ключи, не попав в привычное блюдце, и разложил свою незамысловатую трапезу на кухонном столе. Руки дрожали.
Перед тем как открыть кильку, он налил себе полную, с горкой, рюмку водки. Выпил залпом, одним движением. Едкая жидкость обожгла горло, ударила в голову. Он попытался занюхать запах сгибом локтя, по-старому, но лишь сильнее почувствовал, что в доме пахнет. Пахло отвратительно. Еще хуже, чем утром.
Он отодвинулся от стола и, покачиваясь, начал искать источник. Проверил холодильник – нет, не оттуда. Заглянул в мусорное ведро – тоже мимо. Его взгляд уперся в приоткрытую дверь в комнату матери.
Он подошел, постучал костяшками пальцев в дверь, не дожидаясь ответа, и легонько толкнул ее.
И увидел.
Мать лежала на кровати, отвернувшись к стене. Ее тело было скрючено в неестественной позе, на застывшем лице застыла гримаса боли или удивления. Одна рука свисала с постели, пальцы касались пола. И запах – тот самый, тяжелый, сладковато-тлетворный – исходил именно от нее.
Анатолий застыл в дверном проеме. Минута показалась вечностью. Он не дышал, не моргал, просто смотрел, пока мозг отказывался принимать увиденное.
Потом он бросился к кровати, упал на колени, схватил ее холодную, одеревеневшую руку, пытаясь нащупать пульс. Ничего. Только ледяная, восковая кожа.
Он отшатнулся и на автомате, пальцами, не чувствующими кнопок, набрал номер скорой. Голос его был чужим, плоским. Он назвал адрес и коротко сказал: «Мертвая».
Пока бригада ехала, он вернулся на кухню и, стоя, выпил еще одну рюмку. Потом еще. Не закусывая. Алкоголь не приносил облегчения, он лишь обострял чувство вины, делая его физической болью. Он вспомнил запах, который чувствовал с утра. А может, и вчера, сквозь дым любимого пива? Он почувствовал себя последним говном. Худшим сыном на свете. Он пил, пытаясь утопить в водке этого жалкого, слепого, эгоистичного урода, которым он был.
Приехавшие медики констатировали смерть, предположительно, от обширного инсульта. Они забрали тело, оставив его в пустой квартире, где теперь безраздельно царил тот самый запах, смешавшийся с запахом водки и отчаяния.
Когда дверь закрылась, Анатолий в пальто и ботинках побрел обратно в магазин. Он купил еще одну бутылку, вернулся, сел на тот же стул и методично, не рыдая, без мыслей, добил ее до дна в полной, оглушающей, всепоглощающей тишине. Тишине, которую уже ничто и никогда не могло нарушить.
Глава 4. Рассол
Стук в дверь был сильнее и сильнее. Он не просто доносился извне – он звучал у него внутри, в самой середине черепа, звонко и металлически. Каждый удар молотка по дереву отдавался прямым ударом по вискам, раскалывая голову на части. Боль была настолько физической и яркой, что казалось, вот-вот кости треснут.
Анатолий еле поднялся с кровати. Мир плыл, в глазах стояла мутная пелена. Жажда жгла горло. Он огляделся, пытаясь сообразить, где вода. В полумраке его взгляд упал на холодильник. Пошатываясь, он подошел, открыл дверцу. Внутри, среди пустых полок, стояла открытая трехлитровая банка с огурцами. Без раздумий, обеими руками, он поднял ее и залпом выпил весь оставшийся рассол. Соленая, кислая жидкость обожгла желудок, но на секунду прочинила сознание.
И тогда боль в голове обрушилась с новой, удвоенной силой. Он чуть не упал, успев прислониться к косяку. В этот момент стук снова раздался, теперь уже настойчиво, властно.
Он открыл дверь. На пороге стоял нарядный мужчина в темном костюме, с безупречно каменным лицом.
– Анатолий Владимирович? Соболезную вашей утрате. Я представитель ритуального агентства «Память». Готов предоставить наши услуги.
Тут-то Анатолий все и вспомнил. Вспомнил вчерашнюю водку, скорую, тело матери на кровати. Это не был сон. Это был тяжелый, похмельный кошмар, оказавшийся явью.
Он молча пустил мужчину внутрь. Тот, не моргнув глазом, обошел квартиру быстрым, оценивающим взглядом, будто составлял смету на ремонт, а не на прощание с человеком. Они сели на кухне. Мужчина говорил тихо, веско, перечисляя: гроб, венок, катафалк, отпевание, место на кладбище… Он озвучил сумму.
Анатолию она показалась чудовищной. Неподъемной. Но он знал – это черный бизнес, один из тех, где не спорят. Где горе – валюта, а беда – курс.
Он молча встал и пошел в комнату матери. Он помнил, где она хранила деньги «на черный день» – в коробке из-под обуви на антресолях, завернутые в полиэтиленовый пакет. Он достал пачку купюр, пересчитал. Не хватало. Значительно. Стуча зубами от похмелья и нервной дрожи, он пошел в свою комнату и достал из тайника свою «американскую» заначку – жалкие сбережения, на которые он надеялся купить себе новую жизнь. Он добавил их к материнским деньгам, сделал одну общую пачку и, вернувшись, вручил ее агенту.
Тот бегло пересчитал, кивнул и протянул Анатолию какие-то бумаги.
– Здесь просто нужно подписать, что вы согласны с условиями.
Анатолий не читал. Он не понимал ничего в похоронных делах. Он взял ручку и, не глядя, нацарапал свою фамилию. Представитель агентства, видя его состояние, предложил:
– Мы можем взять все организационные моменты в свои руки. Вам не придется ни о чем беспокоиться. За комплексное обслуживание, разумеется, полагается отдельная плата.
Анатолий молча достал из кармана оставшиеся у него с вчерашнего рабочего дня деньги – немного мелочи и несколько смятых купюр. Отдал и их. У него не осталось ничего.
Агент ушел, оставив его в пустой квартире. Теперь тут был только он. И никаких упреков. Никаких ворчаний с порога. Никаких цоканий языком ночью.
Тишина была абсолютной. И от этой тишины, от этого внезапно наступившего, долгожданного «покоя» стало так грустно, так одиноко и так страшно, как не было никогда за все годы ее бесконечных нотаций. Он остался один на один с самым суровым судьей – с самим собой. И приговор был уже вынесен.
Анатолий сидел на кухонном стуле и смотрел в стену. Взгляд его был пустым и неподвижным, уставленным в одну точку – в жирное пятно от давнишнего борща, в трещинку в штукатурке. Он не думал. Мозг, отравленный вчерашней водкой и сегодняшним рассолом, отказывался производить связные мысли. Было только ощущение. Огромная, всезаполняющая пустота, которая начиналась у него в груди и расползалась по всей квартире, вытесняя воздух. Тишина давила на барабанные перепонки, становясь с каждой минутой все более оглушительной. Он сидел в эпицентре этого безмолвия, и оно было тяжелее любого груза, который он когда-либо перевозил в багажнике.
Потом из этой пустоты в груди начала подниматься боль. Не острая, а тупая, ноющая, как будто там, за ребрами, медленно раскачивался тяжелый, раскаленный колокол. С каждым ударом сердца он бился о стенки грудной клетки, и по телу расходилась волна тоски, стыда и осознания необратимости произошедшего.
Боль копилась, сгущалась, становилась невыносимой. Нужно было заглушить ее. Заткнуть этот колокол. Сознание, еще минуту назад бывшее ватным, с резкой, болезненной ясностью выдало решение: водка. Пассажиры такси подождут. Сейчас не до них.
Он поднялся и, не надевая куртку, побрел в магазин. День был пасмурным, и серый свет бил в глаза, усиливая головную боль. Прохожие обходили его стороной. От него несло – концентрированным запахом перегара, немытого тела, старого пота и того самого сладковатого запаха смерти, который въелся в одежду и, казалось, в саму кожу. Он пах бедой и заброшенностью, и люди на инстинктивном уровне отдалялись от этого ареола.
Он купил ту же самую дешевую водку, с тем же автоматизмом, с каким всегда брал «Балтику 9». Вернулся назад, в свою пустующую скорлупу.
Он налил первую стопку – дрожащей рукой, расплескивая по столу. Выпил. Едкая жидкость обожгла, но не принесла обещанного забвения. Вторая стопка… И тут случилось обратное: сознание не затуманилось, а, наоборот, начало мучительно проясняться.
Из алкогольного тумана стали проступать четкие, невыносимо яркие картинки. Мать, ставящая перед ним тарелку с супом. Ее ворчание за стенкой. Ее молчаливое цоканье языком, когда она накрывала его спящего покрывалом. И вчерашний день. Запах. Этот проклятый запах, который он списал на маринад. Его собственная спешка, его раздражение, его эгоистичная радость от того, что ее «не слышно».
С каждой новой стопкой осознание становилось острее, боль – яснее. Он пил не чтобы забыться, а чтобы заткнуть голос в своей голове, который шептал ему: «Ты мог помочь. Ты должен был проверить. Ты – последнее говно, худший сын на свете». Но водка лишь делала этот голос громче и отчетливее. Он пил еще больше, входя в порочный круг, где ясность сознания приносила только боль, а новая доза алкоголя эту ясность лишь обостряла. Он пил, сидя в одиночестве в безмолвной квартире, пытаясь напиться до потери памяти, до небытия, до того состояния, когда уже ни о чем не надо думать.
Но сегодня это не работало. Сегодня он был вынужден думать. И каждая мысль была похожа на удар ножом.
Он так и продолжал пить и курить свои дешевые сигареты. «Мальборо» лежали на столе нетронутыми – он был недостоин их. Так не поступают ковбои. Ковбои честны, сильны, они не оставляют своих умирать в одиночестве.
В какой-то момент сознание просто отключилось, как перегоревшая лампочка. Последствия вчерашнего опьянения и новая бутылка, выпитая, как говорят, «на старые дрожжи», сыграли с ним злую шутку. Он не помнил, как свалился на кровать, как его вырвало в ведро, которое он инстинктивно подтянул к себе. Он просто провалился в черную, беспробудную яму.
Проснулся он от того, что все тело била мелкая, неконтролируемая дрожь. За окном была кромешная тьма. Руки тряслись так, что он не мог сложить пальцы в кулак. Его мучило двухдневное похмелье – чудовищный коктейль из физической ломки и душевной боли. Он посмотрел на часы на телефоне – было почти три ночи. Выяснилось, что за новой бутылкой ему не сходить: круглосуточные магазины были далеко, а те, что торговали нелегально после закрытия, требовали поездки на такси. Анатолий не хотел вставать. Не хотел видеть людей, свет, мир. Ему казалось, что, если он выйдет за порог, его тут же разорвет на куски от стыда.
Он кое-как поднялся и, пошатываясь, вышел на балкон. Воздух был холодным и чистым. Он закурил, делая глубокие, жадные затяжки, и уставился в темноту, в огни далеких окон. В процессе комната хоть как-то проветривалась, выгоняя запах смерти и водки, впуская запах ночи и одиночества.
И тут, в тишине, сквозь алкогольный туман, в голову пришла простая и ужасающая мысль. Похороны уже завтра. А он даже никому не сказал. Ни родственникам, ни ее подругам, никому. Самый худший сын. Последний подлец.
Он затушил окурок о ржавый балконный парапет и побрел внутрь. Достал со старого комода потрескавшийся от времени телефон матери. Севший аккумулятор едва подавал признаки жизни. Он нашел в контактах тех, кого знал: сестру матери, пару ее старых подруг, с которыми она изредка общалась. Он не писал длинных сообщений. Просто набрал одно и то же для всех, не глядя:
«У мамы завтра похороны. В 12:00, кладбище на Северном. Кто хочет – приходите.»
Он не звонил. Не было сил слышать вопросы, соболезнования, укоры. Он отправил сообщения и отшвырнул телефон.
Сам он друзей не имел. Только знакомых, сослуживцев, собутыльников. Им он писать не стал. Зачем? Если придут – придут. Если нет… да пошли они все. Ему было все равно. Он был один в этой вселенной горя и вины, и присутствие других людей ничего не могло в ней изменить.
Он закрыл дверь балкона, снова погрузив квартиру в затхлую тишину, и рухнул на кровать, ожидая утра, которое не сулило ничего, кроме новой, еще более глубокой боли.
Глава 5. Галстук
День похорон. Анатолий наконец-то помылся. Стоя под горячим душем, он смотрел, как с его тела стекают слои пота, перегара и скорби, образуя грязные лужицы на эмали поддона. Он постарался привести себя в более-менее адекватный вид. Из шкафа, пахнущего нафталином, он достал свой «универсальный» костюм: поношенный пиджак, некогда бывший коричневым, и брюки с блестящими от времени коленями. Рубашка с застарелым желтоватым пятном на животе, которое так и не смогла отстирать мать. И галстук – темный, безразмерный, призванный прикрыть это пятно и придать всему виду подобие приличия.
Он надевал этот костюм и на скупые семейные праздники, и на редкие свадьбы дальних родственников, и теперь – на похороны. В нем все равно была видна неопрятность: короткие рукава пиджака, криво завязанный галстук, несвежий воротничок рубашки. Но его это не волновало. В его голове не было мыслей.
Отпевание и прочие религиозные дела сделали в специальном учреждении, в холодном, безликом зале, пахнущем воском и формальдегидом. Его мать лежала в открытом гробу. Ее умыли, причесали, накрасили. Слишком яркий румянец на восковой коже, неестественно алые губы. Анатолий смотрел на нее и не видел мать. Он видел манекен, очень похожий на нее. Глаза регистрировали один образ – неподвижную, чужую куклу в бархатной коробке, – а мозг отказывался соединить его с живой, ворчливой, вечно суетящейся на кухне женщиной. Между ними не было связи.