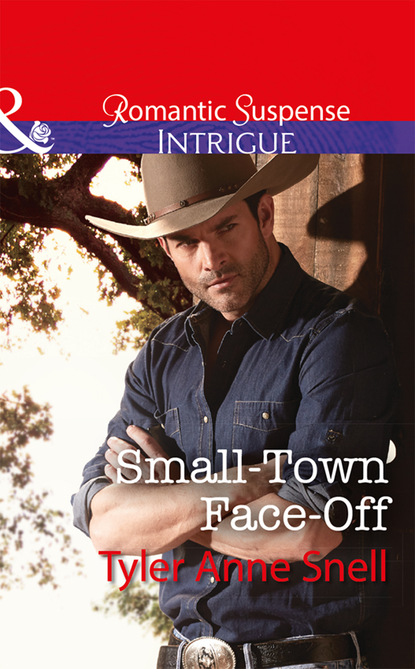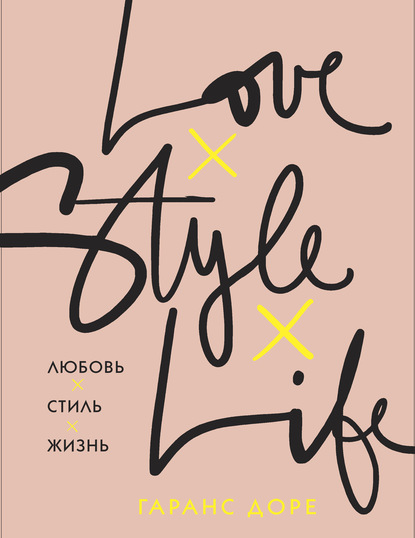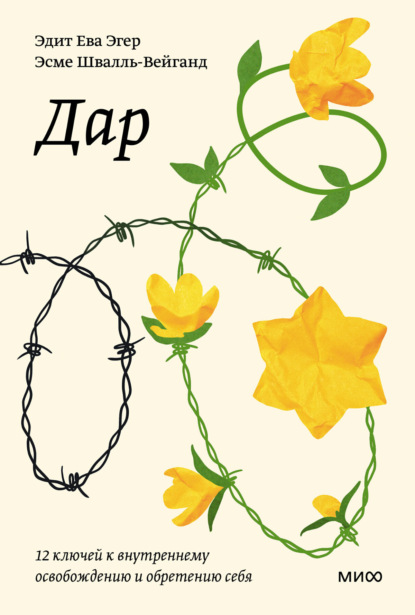Женщина в скафандре. Освобождение души

- -
- 100%
- +
Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Не могла открыть глаза. Веки были неподъемными, словно на них положили свинцовые плиты. Паника, холодная и липкая, поползла из глубины сознания. Она попыталась крикнуть, но ее голос не издал ни звука. Горло было парализовано. Легкие работали сами по себе, ровно и механически, не подчиняясь ее воле.
Я в больнице. Я жива. Но что со мной? Почему я не могу двигаться?
Мысли метались, как подстреленные птицы, ударяясь о стены ее собственного черепа. Воспоминания о переулке, о лице Артема, о вспышке боли – все это было смутно и разрозненно, как обрывки кошмара.
Дверь в палату скрипнула. Шаги. Несколько пар. Один набор – тяжелый, мужской, уставший. Она узнала его быстрее, чем сознание успело оформить мысль. Максим.
– …стабильно тяжелое, – говорил чужой, усталый мужской голос. Врач. – Черепно-мозговая травма, отек… Мы сделали все, что могли. Сейчас главное – не допустить вторичных осложнений.
– Она… она придет в себя? – голос Максима был чужим – надтреснутым, лишенным всякой привычной уверенности. В нем слышалось отчаяние, которое резануло Анну больнее, чем любой скальпель.
Будь она способна заплакать, слезы хлынули бы рекой. Она была в сознании! Она слышала его! Она пыталась издать хоть какой-то звук, хоть шевельнуться, чтобы дать ему знак.
– Сложно сказать, – голос врача был профессионально-бесстрастным, и в этой бесстрастности крылась бездна ужаса. – Мозг – штука тонкая. У нее констатировано вегетативное состояние. Вегетативное состояние.
Анна замерла внутри. Вегетативное состояние. Слова прозвучали как приговор, оглушительный и окончательный.
– Это… что это значит? – прошептал Максим.
– Это значит, что ее сознание, пострадало. Она не понимает, не слышит, не чувствует. Но… – врач сделал паузу, и Анна мысленно закончила за него. Ничего не может сказать. Может непроизвольно открывать глаза, издавать звуки, гримасничать, даже улыбаться или хватать предметы рефлекторно, но все это не осознанно и не целенаправленно. – Моторные функции тела практически полностью парализованы. У Анны, пока никакой двигательной активности нет.
В палате повисла тишина, такая густая, что ее можно было резать ножом. Анна чувствовала, как рука Максима сжала ее неподвижную, холодную кисть. Его прикосновение, обычно такое сильное и уверенное, теперь было трепетным, почти робким.
– Я понял, – тихо сказал Максим. Словно отрезал.
Потом пришла Ольга. Анна узнала ее по стуку каблуков и по запаху дорогих духов, которые теперь вступали в непримиримый конфликт с больничной вонью.
– Боже мой, Макс, как она? – ее голос был неестественно громким, пронзительным.
– Тяжело, – односложно ответил Максим.
– Я не могу в это поверить! – Ольга приблизилась к кровати. Анна почувствовала на своем лице ее взгляд. – Мы же просто весело проводили время! А эта… тварь! Я ему руки пообломаю!
Анна мысленно вздохнула. Даже здесь, даже сейчас Ольга не могла просто быть. Ей нужно было драматизировать, играть роль лучшей подруги, сраженной горем.
– Спасибо, что пришла, Оль, – сказал Максим, и в его голосе сквозь усталость пробивалась легкая досада.
– Конечно! Я всегда рядом! – Ольга помолчала, и Анна буквально почувствовала, как та достает телефон. – Я.… я позвоню потом. Держись.
И ушла. Стук каблуков затих в коридоре. Анна осталась наедине с Максимом и с гулом нарастающего внутри ужаса. Вегетативное состояние. Она – умная, независимая, живая Анна – была заперта в собственной голове. Она слышала, как Максим тяжело дышит, как он сглотнул ком в горле. Она чувствовала, как его пальцы сжимают ее руку все сильнее, словно он пытался силой воли передать ей свою жизнь.
Я здесь, Макс, – кричала она внутри. – Я здесь! Не отпускай мою руку. Умоляю, не отпускай.
Но снаружи не было ничего. Только неподвижное тело и тихие, прерывистые всхлипывания ее мужа, который думал, что остался один.
Книга 2: Скафандр
Часть 3: Стеклянный ящик
Глава 7. Возвращение в клетку
Возвращение домой было похоже на въезд в музей восковых фигур, где все экспонаты были слепками ее прошлой жизни. Максим осторожно ввез коляску в прихожую, и Анну окутал знакомый запах – кофе, старой древесины и лака для паркета. Но теперь к нему примешивались лекарственная горечь, исходившая от нее самой, и запах новой, чужеродной мебели – этой уродливой, скрипучей коляски.
Он принес ее в гостиную. Комната была прежней, но воспринималась иначе. Все было слишком высоким, слишком далеким. Ее любимый диван, на котором она любила читать, теперь возвышался как неприступная гора. Книжные полки упирались в потолок. А большое венецианское зеркало, в котором она когда-то ловила свое отражение, теперь показывало лишь странную, неподвижную куклу в инвалидном кресле, укутанную в плед. Чужую.
Максим поставил коляску у стены, аккуратно, как выставляют дорогую вазу.
– Вот и дома, Анечка, – произнес он тихо, поправляя плед на ее коленях. Его пальцы коснулись ее руки, и она почувствовала это прикосновение как удар тока – единственную точку контакта с реальностью. Но он тут же убрал руку, словно обжегшись. – Все будет хорошо. Я обещаю.
Он говорил это больше для себя, чем для нее. Потом его телефон зазвонил, и он, бросив на нее полный вины взгляд, вышел из комнаты, оставив ее одну.
Одиночество в четырех стенах, когда ты не можешь пошевельнуться, – это особый вид пытки. Взгляд, лишенный возможности отвестись, упирался в белую стену напротив. На ней была та самая, едва заметная трещина, идущая от потолка. Раньше она ее не замечала. Теперь трещина стала ее вселенной. Она изучала каждую ее неровность, каждый изгиб. Это был ее пейзаж, ее горизонт. Иногда по трещине ползла муха, и Анна следила за ней с завистью дикого зверя, запертого в клетке. Муха могла улететь. Она – нет.
Через некоторое время в комнату вошла Мария. Она остановилась в дверном проеме, скрестив руки на груди, и окинула Анну долгим, невыразительным взглядом. На ней был тот самый шелковый халатик Анны.
– Ну что, сестренка, вернулась, – произнесла она без тени теплоты. – Думала, тебя в каком-нибудь спецучреждении определят. А Максим, я смотрю, решил героем быть.
Анна молчала. Внутри нее все сжималось в тугой, болезненный комок. Она видела, как взгляд Марии скользнул по коляске, по ее неподвижным рукам, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на брезгливость.
– Лежишь тут теперь, как царевна Несмеяна, – продолжила Мария, подходя ближе. – А мы тут все за тебя хозяйничать должны. Максиму готовить, убираться… Ты хоть понимаешь, как нам теперь тяжело?
Понимаю! – закричала Анна внутри. Я все понимаю, ты дура!
– Ничего не скажешь, конечно, – вздохнула Мария, словно отвечая на ее безмолвный крик. – Ну ладно, лежи. Только не смотри так укоризненно. Сама виновата. Кто по ночам по сомнительным районам шляется?
Она повернулась и вышла, оставив за собой шлейф дорогого парфюма, который теперь казался Анне ядовитым. Дверь в гостиную не закрылась до конца, и оттуда донеслись приглушенные голоса.
– …не могу постоянно тут сидеть, Маша! – это был голос Максима, сдавленный, усталый. – Работа, кредит за квартиру… Ей нужен постоянный уход!
– А я что? Я сиделка? – огрызнулась Мария. – Я свою жизнь должна поставить на паузу? Ты же видишь, в каком она состоянии. Это уже не человек, а растение. Овощ.
Слово повисло в воздухе, тяжелое и уродливое, как пуля. Овощ. Оно впилось в Анну, обжигая изнутри. Она видела часть коридора в щель приоткрытой двери. Видела, как Мария положила руку на плечо Максиму.
– Макс, ты должен подумать о себе. Это же безнадежно. Рано или поздно ее придется куда-то пристроить.
Максим ничего не ответил. Он просто тяжело вздохнул. И этот вздох для Анны прозвучал громче любого согласия.
Щелчок. Дверь в ее комнату закрылась, оставив ее снова наедине с белой стеной и трещиной. Но теперь трещина казалась не просто деталью интерьера. Она была метафорой ее жизни. Ее семьи. Ее собственного разума, запертого в разрушающейся оболочке.
Она смотрела в стену, а внутри нее бушевал ураган из ярости, отчаяния и бессилия. Она была жива. Она все понимала. Она слышала, как ее называют овощем, и чувствовала, как рушится все, что она так тщательно выстраивала. И не могла сделать абсолютно ничего. Кроме как смотреть на эту чертову трещину. И ждать. Ждать чуда, которого, судя по всему, никто не собирался совершать.
Глава 8. Две недели у стены
Дни слиплись в однородную, липкую массу времени, лишенного привычных вех – утра, дня, вечера. Их отмечали только смены света за окном: тусклый рассвет, на несколько часов заполнявший комнату серым, безрадостным светом, и постепенно сгущающиеся сумерки, превращавшие белую стену перед ней в подобие гигантского, беззвездного ночного неба.
Две недели.
Ее вселенная по-прежнему ограничивалась трещиной в стене. Она знала ее уже наизусть. Каждый мелкий изгиб, каждое ответвление, похожее на реку на старинной карте. Верхняя часть, у потолка, была темнее, будто когда-то там протекала вода. Потом трещина делала резкий зигзаг, словно дрогнула рука у невидимого картографа, и устремлялась вниз, к плинтусу, где терялась в тени. Иногда, когда солнце било под определенным углом, штукатурка вокруг трещины отливала перламутром, и на мгновение Анне казалось, что она смотрит в драгоценную, испещренную прожилками раковину. Но свет перемещался, и раковина снова превращалась в старую, побеленную стену в квартире, которая когда-то была ее домом.
Ее тело было склепом. Склепом, в котором томился ее живой, ясный, отчаянно бодрствующий разум. Мысли текли беспрестанно, как подземная река, не находящая выхода на поверхность. Она вспоминала.
…Первый рассвет на Эгейском море. Они с Максимом забрались на холм над маленькой бухтой. Воздух был густым и соленым, пах диким чабрецом и морем. Солнце поднималось из-за горизонта, окрашивая небо и воду в невероятные, огненные тона – алый, золотой, лиловый. Максим стоял сзади, обняв ее, его подбородок касался ее макушки. «Красиво», – прошептала она. «Не так красиво, как ты», – ответил он, и его голос был таким живым, таким близким, что по ее коже побежали мурашки. Она чувствовала каждую песчинку под босыми ногами, каждый порыв ветра, ласкающий кожу…
Воспоминание было таким ярким, таким осязаемым, что на секунду она почти почувствовала то тепло. А потом взгляд снова натыкался на трещину. На серую, безжизненную стену. Контраст был настолько жестоким, что внутри все сжималось в тугой, болезненный комок. Это было похоже на то, как если бы душа умершего человека могла наблюдать за своей прежней жизнью через замочную скважину, не имея возможности вернуться.
Утро восьмого дня. Максим, перед уходом, подошел к ней. Он выглядел уставшим, его лицо было осунувшимся, тень щетины делала его старше. Он аккуратно, почти с благоговением, покормил ее с ложечки безвкусной, теплой овсяной кашей.
– Вот и все, Анечка, – тихо сказал он, вытирая ей уголки губ салфеткой. Его прикосновение было единственным, что связывало ее с миром живых. – Маша, – он повернулся к сестре, которая с чашкой кофе в руках наблюдала за этим с безразличным видом, – в обед, пожалуйста, не забудь. Йогурт в холодильнике, тот, что детский, фруктовый.
– Да-да, конечно, – буркнула Мария, даже не глядя на него. – У меня своих дел полно.
Максим вздохнул, наклонился, и его губы на секунду коснулись ее лба. Это было похоже на прикосновение призрака – легкое, почти неосязаемое.
– Я скоро, – пообещал он и ушел.
Дверь закрылась. В квартире воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов в коридоре. Мария прошлась по комнате, что-то напевая под нос, потом Анна услышала, как она включила телевизор в гостиной.
Шли часы. Солнечный зайчик медленно прополз по стене, осветив трещину, и так же медленно уполз в сторону. Обед. Анна ждала. Она мысленно представляла себе холодильник, белую баночку с йогуртом. Она уже почти чувствовала его прохладный, сладковатый вкус, единственное маленькое удовольствие в этом аду.
Но шаги в коридоре не приближались. Телевизор продолжал бубнить. Потом Мария, уже одетая, на каблуках, мелькнула в дверном проеме.
– А, черт, йогурт… – донесся ее бормочет себе под нос. Анна внутри встрепенулась. Да! Иди, принеси! – Но Мария лишь махнула рукой. – Ладно, с голоду не умрет. Все равно ничего не чувствует.
Щелчок входной двери. Ее оставили одну. Полностью одну. Наедине с нарастающим чувством голода.
Сначала это было просто легкое неприятное ощущение, фон. Но к вечеру голод превратился в настоящую пытку. Он был не таким, как у здорового человека – острым, локализованным. Нет. Это было глухое, давящее чувство пустоты, разлитое по всему телу, свинцовая тяжесть в желудке, от которой начинало слегка подташнивать. Она не могла даже постанывать от голода. Она могла только чувствовать его, часами, смотря на свою трещину, которая теперь казалась зловещей паутиной, опутавшей ее мир.
Она думает, что я ничего не чувствую. Она думает, что я овощ. Я здесь, я голодна, мне больно! – ее мысли метались, как пойманные в ловушку осы, жужжащие в стеклянной банке. Бесполезно.
Вечером вернулся Максим. Он пах улицей, ветром и усталостью.
– Ну как, покормила? – сразу спросил он, появляясь в дверях.
Мария, уже переодетая в домашнее, красила в коридоре ногти. Не отрываясь, она бросила: «Ага, конечно. Все по плану».
Ложь прозвучала так легко, так естественно, что у Анны внутри все оборвалось.
– Хорошо, – Максим подошел к Анне, его лицо смягчилось. – Сейчас, солнышко, покормлю.
Он разогрел бульон, аккуратно, с ложечки, стал кормить ее. Каждый глоток был мучительным напоминанием о том, что было до этого, о дне, полном пустоты и предательства. Она чувствовала тепло жидкости, ее солоноватый вкус. Это было одновременно и блаженство, и пытка.
Он покормил ее, поговорил с ней несколько минут о работе, о каких-то пустяках, глядя куда-то мимо ее глаз. Потом поцеловал в лоб и ушел, погасив свет.
Она осталась в темноте. Голод утих, сменившись другим, гораздо более страшным чувством – полной, абсолютной беспомощности. Она была не просто парализована. Она была невидима. Ее страдания, ее мысли, ее самость – все это не существовало для мира. Она была пустым местом в дорогом кресле, предметом мебели, о котором можно забыть. И это осознание было горше любого голода.
Глава 9. Эфир и отражение
Шепот за стеной. Приглушенные, но от этого не менее четкие слова, долетевшие из коридора, стали для Анны первым проблеском чего-то, кроме безысходности.
«…поставь ее к телевизору, Максим, – это был голос врача, приходившего на дом. – Да, я знаю, диагноз… Но мозг – загадка. Визуальные образы, звук… Это стимуляция. Мало ли, какая-то нейронная связь восстановится. Да и просто… Человечно это. Не перед голой стеной же ей томиться».
Максим что-то невнятно пробормотал в ответ. Анна замерла внутри, вся, превратившись в слух. Да, да, пожалуйста! – молила она мысленно. Любая перемена после двух недель созерцания трещины казалась спасением.
На следующий день он, хмурый и сосредоточенный, передвинул ее кресло. Спиной к ненавистной стене. Перед ним теперь стоял большой плазменный телевизор, черный и безжизненный. Максим взял пульт, щелкнул. Экран вспыхнул ярким пятном, и через секунду гостиную наполнили торжественные, величественные звуки. На экране проплывали залитые солнцем пейзажи – бескрайние саванны, по которым шли слоны, водопады, низвергающиеся в изумрудные бездны, коралловые рифы, кишащие жизнью. Документальный фильм о природе.
Для Анны это было подобно тому, как если бы умирающему от жажды подали бы чистую, холодную воду. После монотонного, серого плена стены ее сознание, изголодавшееся по информации, по красоте, по жизни, устремилось к экрану с жадностью утопающего. Она «впитывала» каждый кадр. Пение птиц, рев водопада, шелест травы – все эти звуки были бальзамом на ее израненную душу. Она не просто видела и слышала – она чувствовала. Почти физически ощущала тепло экваториального солнца на своей коже, влажную прохладу туманного леса. Это был побег. Единственный возможный для нее побег из тюрьмы собственного тела. Она мысленно летела над каньонами, плыла с дельфинами, пряталась в листве от взгляда большой кошки. Это было блаженство. Несколько часов чистого, ничем не омраченного блаженства.
Днем вернулась Мария. Она прошмыгнула в гостиную, бросив на Анну и телевизор равнодушный взгляд.
«Фу, скукота», – фыркнула она, услышав голос диктора, вещающего о миграции антилоп. Она схватила пульт и одним щелчком переключила канал.
Экран взорвался кислотными красками. Заиграла оглушительная, примитивная музыка, и на сцене запрыгали полуголые танцоры в блестках. Началось какое-то бессмысленное, крикливое ток-шоу, где гости перебивали друг друга на повышенных тонах. Для Анны, только что парившей в облаках над саванной, это было как обливание ледяной водой. Резкий, грубый звук резал слух, мельтешение на экране вызывало тошноту. Она пыталась отключиться, мысленно уйти обратно в свой мир, но грохот и визг были слишком навязчивыми.
Мария плюхнулась на диван, уткнулась в телефон, изредка поглядывая на телевизор и комментируя вслух внешность участников. Просидела так больше часа. Потом, видимо, ей надоело. Она лениво потянулась, зевнула и, не глядя, ткнула в пульт. Экран снова стал черным, безмолвным.
Тишина, наступившая после какофонии, была оглушительной. Но хуже тишины было другое. В глянцевой, темной поверхности отключенного экрана Анна увидела отражение. Смутное, искаженное, но узнаваемое. Силуэт коляски. И в ней – неподвижную, сгорбленную фигуру с безвольно опущенной головой. Себя.
Это было страшнее, чем трещина в стене. Трещина была просто частью пейзажа ее заточения. А здесь она видела себя со стороны. Видела это жалкое, беспомощное существо, этот «овощ», которым ее считали. Контраст между тем, кем она была внутри – мыслящей, чувствующей, тоскующей по красоте и свободе, – и этим отражением был настолько чудовищным, что внутри нее что-то оборвалось. Это была не просто боль. Это было уничтожение. Стирание ее личности.
Она провела так несколько часов, глядя в свое собственное, немое отражение в черном зеркале экрана, пока не стемнело и комната не погрузилась в полумрак.
Вечером пришел Максим. Он сразу заметил что-то не то.
– Маша! – его голос прозвучал резко, необычно для него. – Ты выключила телевизор?
– Ну да, – донесся из кухни равнодушный ответ. – А что такого? Надоело.
– Я же просил! Ей нужны стимулы! Она могла смотреть!
Раздались быстрые шаги. Мария появилась в дверях, вытирая руки полотенцем.
– Максим, ну что ты заводишься? Одумайся уже! Она ничего не видит и не слышит! Она овощ! Какие стимулы? Ты тратишь электричество впустую, а я тут с этой… с этой вещью в одной комнате целый день!
Слово «вещь» повисло в воздухе, тяжелое и окончательное. Анна ждала, что Максим взорвется, закричит, защитит ее. Но он лишь тяжело вздохнул, и в его голосе послышалась бесконечная усталость.
– Хорошо. Ладно. Иди.
Мария фыркнула и удалилась. Максим подошел к Анне, посмотрел на ее неподвижное лицо, на черный экран. Он не включил телевизор снова. Он просто постоял рядом, потом повернул кресло обратно, к стене. К ее трещине.
«Прости», – тихо сказал он и ушел.
Тьма сгустилась окончательно. Анна смотрела в знакомую трещину, но теперь она ничего не чувствовала. Ни ярости, ни отчаяния. Только ледяное, абсолютное безразличие. Она привыкла к голоду. Привыкла к тому, что ее не видят. Теперь она привыкла и к тому, что ее единственное окно в мир могут захлопнуть в любую минуту по чьей-то прихоти. Она больше не ждала чуда. Она просто ждала. Без мыслей, без надежды. Как вещь. Как овощ.
Глава 10. Неслышные слезы
Утро началось с суеты. Анна услышала, как Максим вприпрыжку носится по квартире – очевидно, проспал. Его шаги приблизились к гостиной, он заглянул к ней, его лицо было помятым, а взгляд – рассеянным от спешки.
– Анечка, прости, сегодня некогда, – пробормотал он, хватая ее коляску и переставляя ее рывком перед телевизором. – Сиди тут, ладно? Хоть картинки посмотришь.
Он нащупал пульт, ткнул кнопку включения. Телевизор ожил с громким, рекламным джинглом. Максим даже не посмотрел, что именно показывает экран.
– Все, я побежал! – бросил он ей в пустоту и, на ходу надевая пиджак, выскочил из квартиры.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.