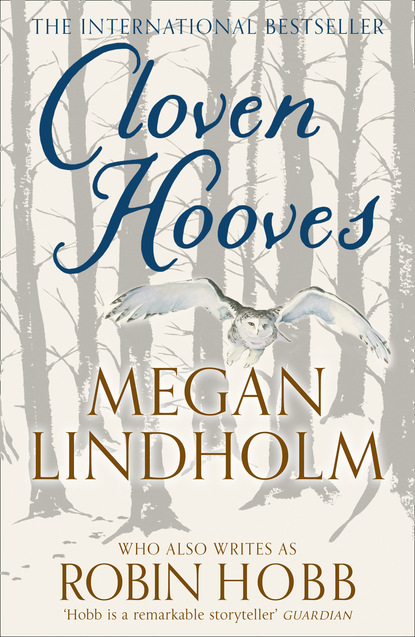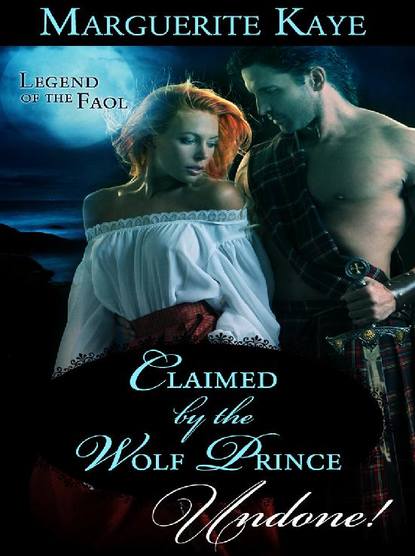Тайна в парижской квартире

- -
- 100%
- +
Это имя перешло к ней после смерти моей бабушки и должно было стать моим, когда Маман наконец отложит иглу. Но я никогда не хотела носить его. Я унаследовала от матери дар владения иглой и намного превзошла её в дизайне, но никогда не могла сравниться с ней в колдовстве. У меня не хватало терпения на подобные вещи. Потому что мои мысли – мои мечты – лежали совсем в другой плоскости.
Маман изо всех сил старалась отучить меня от них. Она была суровой наставницей, быстрой на выговор и скупой на похвалу. Для неё я была эгоистичной и неблагодарной дикаркой, которая однажды пострадает, если не прекратит свои глупые мечтания и не покорится призванию. – Мечтательница! – огрызалась она, когда мои мысли блуждали и это отвлекало руки. Мечтательница. Я, конечно, заслуживала этого. Я и была мечтательницей. С восторженными глазами и фантазиями, как и подобает любой юной девушке.
И, как любая юная девушка, я хранила свои мечты в книге. Не в той, куда записывала наставления мамы, а в совершенно другой. В книге с чистыми белыми страницами, которые только и ждали, чтобы их заполнили мои собственные творения. Страница за страницей – наряды, которые я когда-нибудь создам и на которых поставлю своё имя. Платья, костюмы и потрясающие вечерние туалеты всех цветов радуги. Охристые, лазурные, баклажановые.
Таковы были цвета моих девичьих грёз. Увы, нам, женщинам, редко достаётся жизнь, которую мы выбираем сами. Вместо этого нашу судьбу выбирают за нас те, кто уверен, что знает лучше, и прежде чем мы опомнимся, из нас лепят кого-то незнакомого, переделывают по чужому образу и подобию. Для Русселей это особенно верно.
Семьдесят лет мы держали салон на улице Лежандр с небольшой квартиркой наверху. Он был не таким уж большим – маленьким, но элегантным, со ставнями на окнах и фиолетовой дверью, чтобы выделяться среди соседей. Фиолетовый – цвет нашего рода, цвет магии. Мы могли бы позволить себе более эффектную вывеску или нарядные брезентовые навесы, но наши клиентки ценили скромность почти так же высоко, как и дар Маман владеть иглой. И кто может их винить? Ни одна женщина, а уж француженка и подавно, не хочет, чтобы кто-то знал о её нужде в помощи в делах сердечных. Хотя многим она действительно была нужна. Тем не менее, многим отказывали, считая их несовместимыми с избранниками и, следовательно, неподходящими для свадебной церемонии.
Нельзя было просто прийти и заказать платье у Маман. Чтобы стать невестой Руссель, требовались три вещи: рекомендация прежней клиентки, обет скромности и абсолютная честность. Но даже тогда не было гарантии, что будущая невеста окажется достойной. Существовал процесс: испытания, которые нужно было пройти, вопросы, на которые нужно было ответить, и, конечно, гадание, которое проходило в маленькой гостиной Маман в задней части салона.
Потенциальная клиентка приходила в назначенное время. Одна. Никогда с матерью. Её всегда ждал поднос с угощениями – тарелка с печеньем и сладкий тёмный шоколад в тонких фарфоровых чашечках. Невеста усаживалась на стул с угощениями. Маман улыбалась своей обезоруживающей улыбкой над краем чашки, и начинались вопросы.
– Как давно вы знаете своего молодого человека? Как вы познакомились? Одобряет ли вас его мать? Одобряет ли его ваша? Вы обсуждали рождение детей? Были ли вы с ним близки? Доставляет ли он вам физическое удовольствие? Изменял ли он вам когда-нибудь? Изменяли ли вы ему?
Иногда они пытались солгать, но это не помогало. Маман чувствовала ложь ещё до того, как она слетала с губ. А цена лжи – отказ.
После вопросов следовало настоящее испытание. Женщинам полагалось принести на собеседование что-то личное, а также что-то, принадлежавшее их жениху: расчёску или кольцо, которыми каждый пользовался и к которым прикасался ежедневно. Маман брала эти предметы в руки по одному, позволяя взгляду смягчиться, а дыханию – стать глубоким, пока не начинали возникать образы. Эхо, как она их называла. Того, что было, и того, что должно было случиться.
Вам это может показаться игрой воображения. Ещё страннее было подсматривать в замочную скважину, когда я была маленькой девочкой, подглядывая за тем, чего ещё не понимала. И вот однажды Маман объяснила: каждая душа создаёт своё эхо. Как отпечаток пальца или подпись, которая впитывается в окружающие нас вещи. Кто мы. Где мы. Что мы призваны принести в этот мир. Нет двух одинаковых эхо. Они наши и только наши. Но они неполны – половина совершенного целого. Как зеркало без отражения. И потому каждое эхо постоянно ищет свою вторую половину, чтобы завершиться. Именно это мы и ищем в гадании – знак того, что эхо влюблённых совпадает.
Почти две трети невест, обращавшихся к Маман, получали отказ, и никакие деньги не могли заставить её передумать. В конце концов, это были вопросы принципиальные. На кону стояла её репутация, и ей приходилось быть осмотрительной. Одна неудача могла погубить её, погубить всех Русселей.
Моё обучение состояло из трёх частей. Первой было гадание, на котором, по словам Маман, должен сосредоточиться любой уважающий себя колдун. У него есть и другие названия: скраинг, обливание, инвокация. Как бы его ни называли – неважно. Магия – вещь гибкая, мощная, но податливая, приспосабливающаяся ко многим формам и применениям. Обоняние. Слух. Зрение. Осязание. Даже вкус может быть использован, если практик достаточно обучен. Для Русселей это осязание и способность считывать историю человека – его отголоски – через кончики пальцев.
Когда дело доходит до заклинаний – и до счастья, – универсального подхода не существует. Хорошая магия, действенная магия – это знание истории клиента, того, кто он, как живёт, что им движет. Чтобы быть эффективной, нужно докопаться до истины. Мы работали каждый день после закрытия магазина, используя вещи, которые мама находила или покупала за бесценок в комиссионных лавках. Она учила меня утихомириваться внутри, расслаблять взгляд и замедлять дыхание – очень-очень медленно, – пока всё вокруг не исчезало и образы не всплывали на поверхность. Любовь, потери, дети, свадьбы, несчастные случаи, болезни – всё это проносилось перед моим внутренним взором, словно страницы фотоальбома. Потом мама спрашивала, совпадают ли мои видения с её.
Поначалу я чувствовала себя ужасно, переполненная тем, что всплывало в моей голове. Я была молода и считала неловким быть посвящённой в интимные подробности жизни незнакомцев, будто я подглядывала через жалюзи или читала их дневники. Маман лишь закатывала глаза. Эхо не лжёт, – напоминала она мне. Это мемуары человека, лишённые прикрас и самообмана, суровая и неприкрытая правда, и эти истины – основа всего остального. Под «всем остальным» она подразумевала создание амулета.
Для каждой невесты Руссель необходимо было создать особый амулет, тщательно подобрав слова и сложив их в некое подобие стиха, призванного устранить определённые препятствия и обеспечить счастливый исход. Написание связующего заклинания считалось священным действом и должно было совершаться с благоговением. Никогда в спешке и никогда, ни при каких обстоятельствах, с намерением сломить волю другого. Оба влюблённых должны добровольно вступить в союз и всем сердцем верить в связующую силу заклинания. Вера – краеугольный камень любой магии. Без неё даже самое сильное заклинание бесполезно.
Когда заклинание готово, его вшивают в платье, аккуратно, в тот шов, что окажется ближе всего к сердцу невесты. Слова должны быть вышиты белой шёлковой нитью, стежки почти невидимы невооружённым глазом, – это защита от копирования и незаконного присвоения. Связующие заклинания требуют мощной магии и в неосторожных руках могут причинить вред, который трудно, если не невозможно, обратить вспять. Но в умелых руках тщательно сделанная вязка гарантирует и защиту, и счастье. В день свадьбы, когда влюблённые обмениваются клятвами, их союз, как говорят, становится *envoûtée* – зачарованным.
Эта часть обучения давалась мне с трудом. Я была нетерпелива, и это делало меня неуклюжей, возможно, потому что работа казалась мне невыносимо скучной. Я мечтала шить платья – прекрасные, мерцающие, как на картинках в «Журнале мод». Но мама не позволяла мне делать ничего, кроме подшивания подола или обведения выкройки, пока я не освою изготовление амулетов.
Я считала её ужасно несправедливой. В пятнадцать лет я владела иглой не хуже неё, а может, и лучше, и у меня был альбом, полный идей, которые я жаждала воплотить в жизнь. Пышные юбки принцесс, осиные талии, расшитые бисером корсажи и широкие атласные банты с поясами до пола. Эти платья должны были воспевать женские формы, открывая плечи, спину и грудь.
Маман терпеть их не могла, называя вычурными и вульгарными, годными разве что для сцены. Её мнение задевало меня сильнее, чем я показывала, но однажды, после очередной резкой критики, я заявила, что её бесформенные творения *très démodé* – унылы и устарели. Ни одна женщина, – я угрюмо буркнула, – даже та, что нуждается в нашей помощи, – не захочет идти к алтарю в платье, сшитом из лучшей скатерти её матери, и уж точно не по тем ценам, что мы запрашиваем.
Она ответила так, как я и ожидала, указав, что наши клиентки платят не за моду, а за душевный покой. Тем не менее, я презирала саму мысль, что невеста Руссель должна выбирать между модой и магией. Я не видела причин, почему она не может получить и то, и другое. Если бы она разрешила мне сшить несколько платьев и выставить их в салоне, она бы убедилась, что я права. Но Маман не поддалась. И тогда я начала шить тайком, работая каждую ночь после того, как в её комнате гас свет, мечтая о дне, когда женщины пойдут к алтарю в платьях с моим именем на этикетке.
Сейчас, спустя годы и за океаном от того места, где я начинала, воспоминания всё ещё свежи, но именно работа помогла мне собраться с силами после Парижа и всего, что случилось потом. Даниэль прав. Несмотря ни на что, мне удалось сделать себе имя и продолжить дело Руссель так, как, я надеюсь, Маман могла бы мной гордиться. Мой магазин дал мне уверенность в себе. И я обрела себя. Продать его, сколько бы лет он ни стоял пустым, значило бы расстаться со всем этим – расстаться с самой собой, – и я не знаю, готова ли я на это.
Глава пятая
СОЛИНИЯ
Всегда должна быть свобода воли. Мы не должны навязывать свои убеждения другим или пытаться убедить кого-то следовать нашим обрядам. Мы не ищем тех, кто нуждается в нашей помощи. Напротив, они должны искать нас и просить о помощи.
– Эсме Руссель, Ведьма в платье
31 мая 1985 г. – Бостон
На этот раз Дэниел ждёт до завтрака, чтобы позвонить. Я подумываю подождать, но понимаю, что это бесполезно. Он всё равно появится у моей двери с коробкой моих любимых трюфелей. За столько лет он знает, как меня обвести вокруг пальца.
Я не торопясь наливаю кофе, а телефон продолжает звонить. Семь раз. Восемь. Девять. Я всё ещё не знаю, что сказать. Я не позволяла себе думать об этом с самого его первого звонка. Но теперь приходится, потому что он знает, что я здесь – где же мне ещё быть? – и он не сдаётся.
– Ты становишься обузой, – рычу я, наконец сняв трубку.
– А если бы это был не я? – В его голосе слышится улыбка и нотка раздражения от того, что я заставила его ждать.
– Кто ещё мог бы мне звонить?
– Верно. Ты думала о том, чем бы хотела заняться?
Я делаю глоток кофе, морщась от горячего и крепкого. Мне хочется повернуть время вспять, вернуться в те дни, когда у меня ещё были мечты, до того как моё сердце замёрзло.
– Нет, – категорично отвечаю я. – У меня не было времени.
– Я знаю немного больше, чем в прошлый раз. Агент звонил снова вчера. Его клиент ищет помещение для галереи. Они определённо рассматривают аренду, а не продажу, а значит, ты не собираешься отдавать помещение. Ты просто… делишь им. Ради благого дела.
Я вздыхаю.
– В этом городе полно недвижимости. Зачем ему моя?
– На самом деле, это женщина, хотя агент так и не назвал её имени. Он сказал, что в галерее будут выставляться начинающие художники. У неё даже есть название. Она хочет назвать её «Неслыханно».
Я прокручиваю название в голове. Умно. Интригующе. Конечно же, это женщина.
– Надо было сказать ему, что галерея недоступна, когда он звонил в первый раз, – огрызаюсь я, раздражённая тем, что жизнь намерена бросить меня в прошлое, когда всё, чего я хочу, – чтобы меня оставили в покое.
– Я не твой сторожевой пёс, – говорит Дэниел тем тоном, который он приберегает для моих вспышек раздражения. – Я твой адвокат. Моя работа – давать советы, когда появляется серьёзная возможность. А эта – серьёзная. Они знают о пожаре, о том, что ремонт так и не завершён. Глисон говорит, что ей всё равно. Судя по всему, они искали помещение почти год, но ничего из того, что он ей показывал, не подошло. В конце концов, она отложила эту идею. Потом увидела таунхаус и сразу поняла, что это то самое. Её точные слова. Она сказала, что здание словно ждало её.
Ждёт её…
Эти слова вибрируют у меня в груди, будто камертон по которому ударили.
– Она думает, что здание – моё здание – ждало её?
– Так он и сказал. Кто знает, что с этими артистами.
– Я артист, – сухо напоминаю я ему.
– Знаю. Так, может быть, вы с этой будущей галеристкой – родственные души. Может, мне договориться о встрече?
– Я этого не говорила.
– Перестань уговаривать, Дэниел. Я не ребёнок.
– Конечно. Но, возможно, она права. Может, здание её ждало. Может, и ты тоже. Они говорят только об аренде. И ты бы поняла, что оно используется для чего-то важного. Для искусства.
В трубке повисает удивлённое молчание.
– На какой день?
– Ты не хочешь встретиться с этой загадочной женщиной?
К его чести, он молчит. Правда в том, что я иногда бываю немного по-детски: угрюмая и непреклонная. И да, трудная. Наверное, так и должно быть, когда жизнь отказывает тебе во всём, чего ты когда-либо хотел. Но теперь речь о ком-то другом. О ком-то с мечтой. О ком-то, кто верит в искусство и художников. Неужели я действительно хочу всё испортить?
Я помню день, когда узнала, что придут нацисты. Помню, где я была и что на мне было надето. Помню, что было надето на маман и что она сказала. И помню, как не хотела верить в это. Это было невозможно. Но маман знала лучше и тихо начала запасать всё, что могло нам понадобиться – что понадобится мне – и на моё шестнадцатилетие она решила, что пришло время подготовить меня к тому, что должно было случиться.
Глава шестая
СОЛИН
Распятие на шее и магический чарм в кармане могут отпугнуть охотников на ведьм, но они бесполезны против нацистов.
– Эсме Руссель, Ведьма в платье
17 сентября 1939 г. – Париж
Приближается время закрытия, я убираюсь в мастерской, жалуясь на рулоны ткани, что скопились по углам, и тут швейная машинка мамы замолкает.
– Придёт время, – серьёзно говорит она, – когда нам понадобится нечто большее, чем мука и сахар, чтобы выжить.
Моя мать никогда не была склонна к драматизму. Она – женщина, живущая в прохладе и сдержанности, у неё нет времени на театральность, поэтому это мрачное предсказание, свалившееся как гром среди ясного неба, застаёт меня врасплох.
Я моргаю.
– Кто что-то говорил о муке?
Она протягивает руку, выключает радио, затем складывает руки на коленях.
– Мне пора сказать тебе несколько слов, Солин, и я хочу, чтобы ты выслушала.
Одного этого достаточно, чтобы насторожиться. Maman не болтлива, разве что когда указывает на неровный подол или неказистый узор. Но война всё меняет. У меня сжимается живот, когда я встречаюсь с её глазами, такими же тёмными, как мои собственные, с бахромой чёрных ресниц, которые внезапно и необъяснимо наполняются слезами.
Она указывает на пустой стул у своего рабочего стола.
– Садись рядом со мной и послушай.
Её слёзы, такие редкие, пугают меня.
– Что такое?
– Грядут перемены, – начинает она. – Тёмные времена, которые станут испытанием для всех нас. Даже сейчас дуют ветры.
Она перебирает пальцами золотое распятие, которое теперь носит каждый день – новая привычка, как и гранатовые чётки в кармане фартука, к которым она рассеянно прикасается, когда руки свободны.
Да, Maman носит чётки. И носит распятие. Для таких, как мы, не редкость исповедовать смесь католицизма и «магии духов». Она не ходит на мессу и не исповедуется, но время от времени заходит в церковь поставить свечку – как своего рода защиту от несчастий.
Возможно, это отголосок ранних дней церкви, когда наши праздники вписывали в христианский календарь, пытаясь загнать таких женщин, как мы, в лоно истинной веры. Или пережиток тех самых тёмных времён, когда не-католика могли привязать к столбу и сжечь. Как бы то ни было, многие одарённые во Франции и поныне балансируют на грани между святыми и духами. Особенно женщины.
Наш пол всегда был источником проблем для власть имущих, ведь мы видим и знаем. А теперь ещё и мама что-то знает. Поэтому я сижу тихо и жду.
– Опять немцы, – резко говорит она, возвращаясь к разговору. – Во главе стоит un fou – безумец с тенью на душе. Он заберёт всё. А что не сможет взять – уничтожит.
Она замолкает, кладя руку мне на плечо.
– Ты должна быть готова, Так-Так.
Она редко прикасается ко мне. И никогда не называет меня Так-Так. Это ласковое прозвище придумала тётя Лилу, и оно всегда действовало маме на нервы. Её внезапная нежность пробирает меня до дрожи.
– Откуда ты знаешь?
– Я уже это пережила. И не так давно. И вот оно снова наступает.
Она крепко зажмуривается, словно пытаясь стереть эти образы.
– Эта война будет не мелочью. Это варварство, которого мир ещё не видывал, а потому и не разглядит.
Она поднимает голову, её взгляд прикован к моему лицу.
– Тебе нужно быть сильной, ma fille. И осторожной.
Она внезапно бледнеет, её тёмные глаза, словно бусинки, твердеют, заставляя меня смотреть в них. Как я могла не заметить, как её лицо заострилось, как истончились её некогда пухлые губы? Она напугана, а я никогда не видела её испуганной.
Она что-то недоговаривает, что-то, что пугает её больше, чем сама война. И мне внезапно становится страшно.
– Когда, мама?
Её взгляд неподвижен, и впервые за всю мою память её эмоции не скрыты. Страх. Печаль. И безмолвное извинение. И вдруг я понимаю, что она не договаривает, и что я сама не позволяла себе увидеть до сих пор. Впалые щёки и тени под глазами, кашель, что я порой слышу по ночам. Мама больна, и скоро её не станет.
Глава седьмая
СОЛИН
– Более двухсот лет существует Ведьма Шитья, хранительница наших секретов и учительница нашего ремесла. Наш дар передается по наследству, титул переходит из поколения в поколение. Когда мать откладывает иглу, дочь ее берет. И так продолжается Работа.
– Эсме Руссель, Ведьма в платье
17 января 1940 г. – Париж
Пока что, кажется, ничего не изменилось. Столики в уличных кафе по-прежнему полны посетителей, кофейни – художников и философов, потягивающих бесконечные чашки черного кофе, грызущих жизнь, как кость. Шеф-повара готовят, вино льется рекой, кинотеатры привлекают привычную толпу, а мода остается главным развлечением парижанок. Что еще важнее – по крайней мере, для Руссель – молодые влюбленные продолжают жениться. Маман говорит, это из-за гитлеровских войск, что несутся по Европе, словно саранча. Перспектива увидеть солдат на наших улицах нервирует всех, и невесты отчаянно пытаются попасть под венец, пока не случилось худшее.
Каждый день мы просыпаемся под сообщения о новых зверствах. Женщина, бежавшая из Берлина с престарелыми родителями, рассказала Маман о той ночи, когда десятки евреев из её района были отправлены в лагеря, их синагоги сожжены, предприятия разгромлены, а улицы, где они жили и работали, усеяны осколками стекла. Ту ночь назвали «Хрустальной» – Ночью разбитого стекла. Мы, конечно, слышали об этом по радио, но не так, как она рассказывала.
А сегодня утром сообщают, как матери сажают детей в поезда, отдавая их незнакомцам, чтобы спасти от грядущего. Маман рыдает уже несколько часов, то затихая, то снова начиная. Она стремительно худеет, лицо стало таким исхудавшим, что кости проступают сквозь кожу, а кашель усиливается с каждым днём. Она отказывается идти к врачу, уверяя меня с пугающим спокойствием, что это ничего не изменит. Между нами больше нет притворства. Она умирает, а я могу лишь наблюдать.
– Долго это еще продлится? – спрашиваю я, когда она выключает радио и откидывается на подушки. – До того как они придут в Париж, я имею в виду.
Она отворачивается, кашляя в платок, прерывистый хрип, от которого задыхается и бледнеет.
– Они всё ближе с каждым днём. Не остановятся, пока не захватят всё.
Её ответ не удивляет. То же самое говорят и по «Радио Лондон».
– Они уже захватили половину Европы. Зачем им Париж?
– Они хотят очистить всю Европу. Многие умрут. А те, кто выживет, потеряют всё.
Я киваю, потому что сомневаться в её правоте уже не приходится. Каждый день приносит новые ужасы. Рейды и облавы. Поезда, что пересекают Европу, загруженные заключенными для лагерей. Коммунисты. Евреи. Цыгане.
– Тогда никто не будет в безопасности?
– Те, кто готов закрыть глаза и подчиниться, – только они. Иные даже наживутся на этом. Остальные придут со своими косами и скосят всякого, кто встанет у них на пути. А меня здесь не будет. Некому будет тебя защитить.
Хочу сказать, что она ошибается, что поправится и всё будет хорошо, но мы обе знаем – это неправда. Поэтому я молчу.
– Я получила письмо от Лилу, – резко говорит она.
Эта новость лишает меня дара речи. Мама так и не простила сестру за то, что та влюбилась в англичанина и сбежала, чтобы выйти замуж. Он был богат и красив, имел квартиру в Лондоне и загородный дом, где держал лошадей и овец. Мне всё это казалось ужасно романтичным. Маман же видела ситуацию иначе и не проявила никаких эмоций, когда пришло известие о смерти мужа Лилу. Она разорвала письмо в клочья и бросила в огонь, бормоча, что так и должно было случиться, и сестра получила по заслугам за то, что бросила нас. Теперь, спустя больше десяти лет, пришло новое письмо.
– Я не знала, что вы с Лилу переписываетесь.
– Война всё меняет, – сухо отвечает мама. – И было… что сказать.
– Ты сказала ей, что больна?
– Она сказала, что тебе нужно приехать.
Я смотрю на неё.
– В Лондон?
– Без тебя?
Её глаза сверкают, в них лихорадочный блеск смешался со страхом.
– Разве ты не видишь? Им не нужна причина! Но они её найдут. Люди всегда найдут способ оправдать свою ненависть и дать другим повод подчиниться. Они вкладывают слова в уста, внедряют их, как вирусы, и смотрят, как те расползаются. Люди здесь, в Париже, люди, которых мы знаем, заразятся. И когда лихорадка распространится, они будут указывать пальцем на любого, кто, по их мнению, может их спасти. Пожалуйста, умоляю, уезжай к Лилу.
– Как я могу уехать? – слова вырываются резче, чем я хотела, но она просит невозможного. Мы никогда не были близки – не так, как большинство матерей и дочерей, – но она моя мать. Я не могу её просто бросить. – Ты так слаба, что не спускаешься по лестнице и едва можешь есть сама. Если я уйду, некому будет о тебе заботиться.
– Ты должна, Солин. Ты должна уехать. Сейчас же.
– А как же Работа? Кто-то должен быть здесь, чтобы делать Работу.
– Работы не будет, Солин. Не будет невест, потому что не будет женихов. Мужчины уйдут. Все.
Я чувствую, как у меня перехватывает дыхание. Я слышала истории о прошлой войне, о нехватке мужчин на выданье потом, потому что они ушли воевать и не вернулись. Не думала, что это повторится. Но, конечно, она права. Заказов уже почти нет, и будет только хуже. А потом? И всё же я не могу сделать то, о чём она просит.
– Я не оставлю тебя здесь одну.
– Маленькая дурочка! – у неё вспыхивают глаза, и она хватает меня за запястье. – Думаешь, что-то изменится, если ты будешь здесь, когда придёт мой час? Сможешь остановить то, что со мной происходит? Не сможешь. От этого нет никакого волшебства. Как и от того, что грядёт. Тебе здесь больше нечего делать.
Когда-то у меня был отец, человек, которому удалось хоть раз привлечь Эсме Руссель в свою постель. Я не знаю его имени. Знаю лишь, что он был музыкантом, учившимся в Париже, и уехал, не женившись на ней. Маман никогда о нём не говорила, и Лилу странно молчала на этот счёт, несмотря на моё любопытство. Так он и остался тенью, безымянной ошибкой, расплатой за которую стала маленькая девочка.