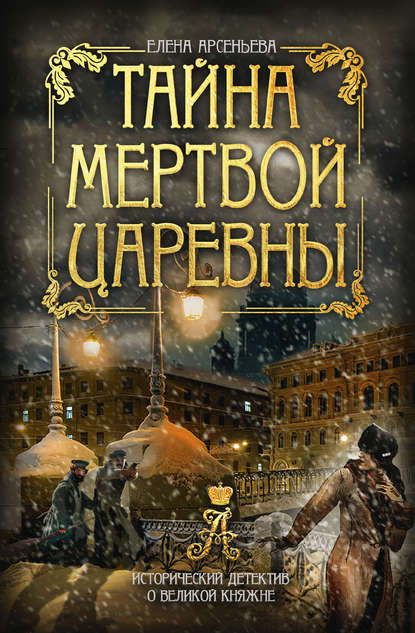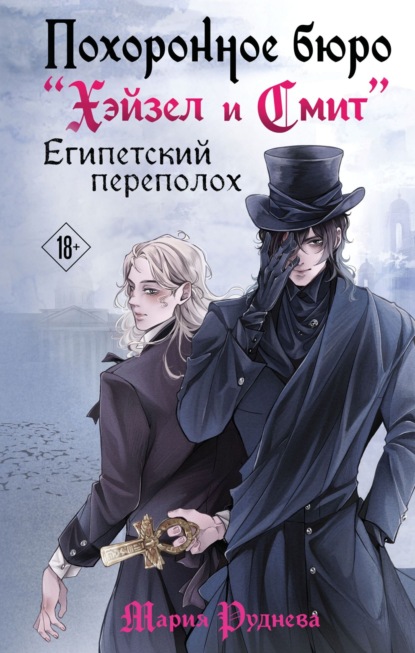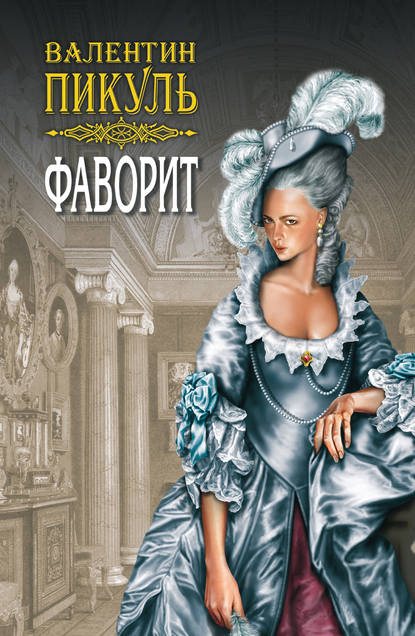Демон за столом
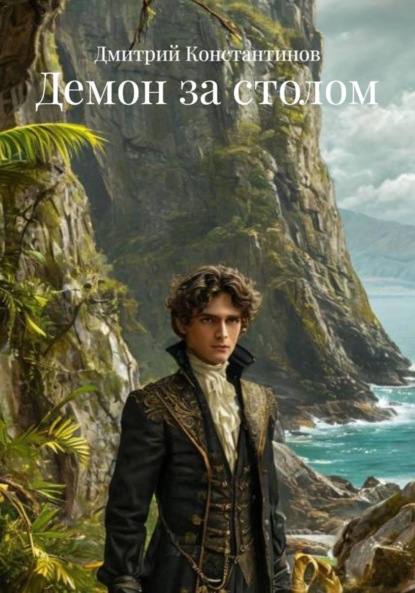
- -
- 100%
- +
Сара де Рише – имя её звучало ранее для него то ли как молитва, то ли как проклятие; она уехала, и никто не знал, куда, и для неё это было в точности так, как она умела жить: внезапно, без объяснений, без повестки. Её уход не был случайным; женщина эта, мать Луи, являлась основательницей и, более того, матерью-идеологом Золотого ордена – того самого закрытого братства, о котором в их кругах слагали легенды и неправдоподобные слухи. Орден этот имел ложи в каждом уголке света, – представьте себе: не просто в столицах, но и в глухих деревушках, где ещё говорили неправильно, – он щедро влиял на политические программы, направлял судьбы религий, собирал артефакты, как кто-то собирает марки или камни. Они были философами – это слово слишком скромно для их дела; они были силой, которая умела обращаться с миром как с материалом для ремесла, и в их руках нравственная ткань общества становилась мягкой, как воск. Люди, входившие в их круги, знали и могли прясть судьбы; но всё это было как бы поверхностно по сравнению с тем, что вешало на грудь Сары де Рише – та ответственность, та тяжесть, которой давало ей право исчезать, не прощаясь.
Луи с детства, по неожиданной и странной привычке, приучился к отсутствию; мать исчезала, являлась, снова исчезала – и вся его жизнь была выстроена как череда молчаливых ожиданий. Он не задавал лишних вопросов; зачем встревать в то, чего не понимаешь? Таков он был: в нём было не только покорность, но и некая болезненная гордость, горечь оттого, что жизнь его была поделена между долгом и пустым местом, где должно было быть материнское лицо.
И вдруг – стук. Стук в дверь, который нарушил тишину так, будто самой тишине дали пощёчину! Он был тяжёлый, настойчивый, не похожий на привычные звонки; это был стук судьбы. Луи оторвал взор от страниц с тем же чувством, с каким человек отрывает взор от покойника, чтобы посмотреть, не оживёт ли он. Он встал медленно, как будто бы не желая поспешности, потому что каждая поспешность в такие минуты порождает дурные последствия. Дверь открылась, и на пороге, прямо на ней, стоял почтальон – человек худой, бледный, измученный, как будто носил на себе весь людской холод и дождь прошедших дней. В его лице была какая-то непривычная усталость, глубже простого физического истощения; это была усталость от повторяющихся вестей, которых не хотелось приносить, ибо они несли большее, чем просто правда.
Он протянул дрожащей рукой один лист – и в этой дрожи было что-то чрезвычайно верное, какое-то неумолимое признание: письмо. Конверт был тяжеловесен, с печатью, которую Луи по первому взгляду узнал и не узнал одновременно – печать с символом, который так или иначе отзывался в крови: круг, в центре которого был знак, похожий на солнце, и под ним буквы, затёртые, как старая память. Сердце Луи вдруг дернулось и запело странную песню, которую он сам себе не хотел петь; в этот миг всё его существование стало приставлено к резкому вопросу: что дальше? Откроет он конверт – и узнает ли истину, или только новую сеть тайн развернётся пред ним?
Почтальон, ласково и одновременно жестоко уставший, произнёс: «Это для Вас, мсье». В его голосе слышалась не только официальная фраза; в нём было как будто сожаление человека, который вынужден приносить не только почту, но и судьбы. Луи взял конверт, и его рука, напротив помощи обволакивающего тепла – или холода – дрожала. Он почувствовал в себе ту смешанную дрожь, от которой иногда человеку хочется и плакать, и смеяться; и всё же он принял его, потому что другого выбора не было: письмо – это всегда начало разговора с миром, а мир, в свою очередь, слишком часто говорит на языке угроз.
Он закрыл дверь. В комнате вновь опустилась тишина, но теперь была она иной породы: в неё вплёлся звук сердца и шелест бумаги. Луи сел за стол и, держа конверт в руке, взглянул на окно, где унылый свет делал всё ещё бледнее, как будто бы ночи давно уже поселились у него в комнате. И тогда он, забыв о прежнем умении не задавать вопросов, почувствовал, как одна мысль – тяжёлая и едкая – положила руку ему на лоб: в письме – ответ на исчезновение его матери, или же приглашение в новую ловушку. Как часто в жизни эти буквы стали завесой, скрывающей от человека либо спасение, либо гибель!
Письмо пришло так внезапно и так нелепо в своё спокойное, почти ленивое существование Луи де Рише, что сам он, читая его в ту же самую минуту, когда надо было бы молиться или, по крайней мере, плакать, не знал, смеяться ли ему над собой или плакать над судьбой. Это было не просто приглашение – нет, приглашение в тех краях, где каждое приглашение похоже на повестку, на приговор, на призыв к исповеди. На бланке – печать старого, но гордого рода; почерк – мелкий, точный, с некой английской сухостью; и в словах – не столько просьба, сколько требование.
«Месье Луи де Рише», – читал он вслух, с тем особенным чувством мучительного торжества, какое бывает у людей, которые вдруг обнаруживают, что весь мир внезапно повернулся к ним лицом, но лицо это холодно и грозно. – «Лорд Уильям Мортимер просит вас немедленно прибыть на его остров. Срочно. Я должен сообщить вам, что мадам Сара де Рише числится пропавшей без вести уже несколько дней. С уважением, секретарь. – В полночь. – Привоз на яхте. – Конфиденциально».
И всё. Никаких объяснений, никакой жалости, и в то же время – вежливое, почти расчётливое прикосновение к чужой беде, как к вещи: «срочно прибыть», – и всё конвертируется в напряжение того, кто зовёт. Ах, эти сухие слова – «конфиденциально», «срочно», – они звучат как шпоры у лошади на мостовой судьбы.
Луи уронил письмо; оно упало на стол и легло между пачкой старых счетов и фотографией матери, где её глаза, казалось, смотрели прямо на него с тихой, почти преступной уверенностью. Что это было – неведомая кара, наказание ли от случая, или звуковой крик судьбы, которую он забыл? Он вспомнил, как последние дни заметал мысли: работа, друзья, дни, пустые, как чашки без вина; а мать – мать, она была где-то рядом, всегда как тень у окна, как вечный обет. И вдруг – «пропала». Слово это, такое короткое, будто маленький нож, вошло глубоко, и в сердце Луи не сразу развилась та боль, какая бывает только при столкновении с ничем, с безднами, – та самая боль, которую невозможно спрятать ни под какими словами.
Лорд Уильям Мортимер – имя, которое в их кругах звучало и как вызов, и как оберег, и как клада тяжёлого, черного золота памяти. Люди о нём говорили почти шёпотом: человек-остров, человек-тайна, человек-коллекция. Он жил на своём острове – на острове, который, по слухам, окружала вода холодная и мёртвая, с берегами, где бились волны и сыпались камни, где чаще поросшие мхом утёсы, чем сады. Остров сей не радовал глаз добротой; он был суров, как характер того, кто там правил. Туман ложился на него как саван, и ночью всякая фигура на набережной казалась сгустком воли. На остров доплывали лишь те, кому велено или те, кто согласился на сделку – и вот теперь он просит Луи; просит не открыто, но как бы из-под земли, через сухой французский почерк, через английскую прямоту.
Воображение Луи нарисовало дом этот таким, каким любят его рисовать в страшных легендах: огромный, тяжёлый, как раздавленный птицей кит, возвышающийся над скалами; фасады его – с колоннами, с карнизами, с масками каменными; башни, сводчатые окна, – всё это, казалось, закрывало в себе не просто комнаты для жилья, а целую страну вещей. Да, это был дом-архив, дом-сокровищница; там хранились подлинники картин, произведения искусств – то, что, по-видимому, Мортимер собирал и прятал, как человек, который боится отдавать мир во власть толпе. Галереи его были длинные, залы – высокие и холодные; в них висели полотна, лица с которых смотрели не живые люди, а какие-то взгляды из других эпох, из иных судеб, – и в этом зрении была та особая тяжесть, какая бывает в музеях старинных, где краска ещё дышит и где запах льняного масла и лака смешан с запахом старости.
Представляя себе этот дом, Луи видел не только роскошные комнаты, но и лабиринт карнизов, секретных дверей, подвалов, и сторожей, похожих на привидений; видел, как картины, собранные как добыча, висят в полумраке под лампами, потрескивают рамы, и вокруг них нет ни голосов, ни света – только тишина, в которой слышится шелест отдельных страниц, страниц тех гримуаров, о которых он уже думал. И ещё – люди Мортимера. Те, кто ухаживал за полотнами, те, кто владел ключами, – люди строгие, с глазами, в которых застывала не любовь к искусству, а любовь к тайне.
«Приезжайте ночью, – говорило письмо, – конфиденциально». Ночь – всегда время тяжёлое, время решения, время, когда кладет свои лапы совесть на плечи человека. Луи понял: приглашение это – не просто зов, это приглашение в лабиринт, где возможно встретить правду, а, может, и её тень. И в то же самое мгновение, он почувствовал в себе ту старую странную смесь страха и любопытства, что бывает у людей, стоящих на краю пропасти: не отступить – значит броситься в неё; отступить – значит навсегда остаться в тени. Что же сделает он? Ответ этот лежал так близко и так далеко, как и сама пропавшая мать, и он, чувствуя себя пленником своих же чувств, уже понимал, что завтра, когда яхта Мортимера подаст свой ровный, глухой звук в бухте, он пустится в путь – как тот, кто идёт посреди ночи не от света, а к свету, который может оказаться свечой или прожектором судного дня.
На следующий день яхта лорда прибыла в гавань Темзы и прорычав несколько раз призвала вступить на свой борт Луи де Рише, дабы отправиться в неизведанные края на поиски матери. Никогда прежде – по крайней мере, так казалось Луи де Рише в те мрачные, переломные часы, – он не думал, что море может быть столь говорливым. Не о ветрах, не о приливах и отливах речь, нет; говорило в нём что-то другое, гораздо старше и беднее, – то самое бесконечное, робкое и страшное слово бытия, которое, когда ему случается заговорить, всегда звучит, как приговор и как просьба одновременно. Лодка лорда Уильяма Мортимера, большая, тяжелая, с каютами, затенёнными и влажными, – лодка, всем своим видом обещавшая власть, покой и роскошь,– шла по морю, будто бы сама коря себя: «я принадлежу человеку, который умеет властвовать», – и в то же самое время: «я слабела, я дрыгаюсь, я могу предать». Она шла с той медлительностью, которая навевает мысли о предстоящем; она шла, будто стыдясь ускориться.
Луи – молодой, но тем не менее усталый от жизни человек, с куполами воспоминаний, в которых мать занимала место не столько матери, сколько загадки, – сидел на банке у кормы, обхватив колени руками, и смотрел на ту полосу света, что оставлял кормовой винт на поверхности, на тот шрам, что яхта прокладывала по телу моря. Письмо лорда Мортимера, пришедшее накануне вечером, лежало у него в кармане, как нечто живое и тяжёлое; и каждое прикосновение к ткани воротника, к старому чёрному кожаному переплёту записных книжек – всё казалось ему напоминанием о бумаге, о словах: «Ваша мать исчезла», – и о том, что «исчезнуть» в нашем веку – это не простое слово, а маленькая смерть, и что не каждый имеет право на то, чтобы быть похищенным тем, что зовётся судьбой.
Он думал о Мортимере – и думал с противоречием, которое обычно посещает людей, стоящих на грани между жалостью и подозрением. Лорд казался ему и добродушным, и странным; письмо было точным, вежливым, но в нём слышались паузы, словно за словами таилась дрожь. И что же? Ведь люди, которые могут формулировать мысли хладнокровно, часто гораздо более опасны, чем те, у которых язык трепещет. Луи ошибался? Или он чувствовал тонкое присутствие в этих строках чего-то, что не может быть выговорено, – то есть того, что, как правило, человек признаёт лишь перед зеркалом собственной совести?
Яхта шла, и море, отразив сквозь себя ту тяжесть, казалось, разговаривало с Луи о прежних грехах, о промахах и о том, как легко строится упрёк в душе человека, который ещё не успел закончить своё покаяние. Он думал о матери: о её голосе, который был мягок и злободневен одновременно; о её случаях, мелких, почти неприметных, когда она исчезала в толпе, будто бы и не хотела быть замеченной. Его память представляла сцены, мельчайшие жесты, запахи, и каждое из этих воспоминаний прилеплялось к письму Мортимера, делая его всё более нестерпимо важным. Быть может, она ушла сама? Быть может, кто-то вывел её из дома тихо, как забирают старую птицу, чтобы посадить на чужой сук? Вариантов было множество, и все они были дурны.
Вдруг он вспомнил лицо лорда: не столько портретное и официальное, сколько то, что было скрыто в двух строчках приёма, когда Мортимер говорил о ней – о той женщине, чей образ, по-видимому, принадлежал не только его сыну. Почему Мортимер жил на острове? Почему именно там? Вопросы становились острыми, как клинки, и Луи чувствовал, что каждая волна, разбивающаяся у борта, отскакивает от его сердца и приносит новые сомнения. Он был приглашён – приглашён ехать на ту землю, где, быть может, таилась истина, и где, возможно, таилась ложь того же человека, чьё имя было для него священно-запретным: лорд Уильям Мортимер.
Ночь сжала их плавучее жилище; яхта словно вгрызалась в тьму. В каюте слышались шаги экипажа, тихие, чаще полу-шёпотные; и казалось, что даже люди, пришедшие сюда с привычкой подчиняться приказам, замолкли оттого, что берег – этот маленький, земной берег, был как бы прикрыт от них особой печатью: «здесь многое может быть раскрыто, но многое и спрятано». Луи слушал то, как внизу, в трюме, болтается провизия, как старые доски скрипят, и думал о том, как легко можно поверить в чистоту намерений человека, который вёл свою жизнь под именем благородства. Благородство – слово неоднозначное; оно бывает и прикрытием, и спасением.
Он читал письмо вновь. «Ваша мать пропала… Мы ищем… Свыше всего просим Вас прибыть скорее…» – и так далее, и так далее. В этих строках было и нечто деловое, и нечто, почти болезненное; и Луи, разбирая эти полутона, не мог не думать о простоте человеческого страха. Почему страх всегда возводит вокруг себя стены? Почему открытие одной двери приводит к вырытию множества других? Он представлял себе остров: высокий, скалистый, с домом, где мерцают свечи по ночам, где люди ходят тихо и как будто боясь друг друга. И, может быть, там, среди каменных стен, мать слышала голоса чужие и чуждую ласку, и вдруг поняла, что не принадлежит никому, и ушла. Или ушли её. Какая из версий ужаснее – сама мысль о добровольном уходе или мысль о том, что её унесли, словно вещь, не принадлежащая к человеческому роду?
Луи не мог избавиться от ощущения причастности, от странной, почти нечистоплотной гордости, что лорд предоставил ему яхту. Да, предоставил – как бы приглашая его в свой мир, в свою тайну. Это приглашение – было ли оно актом благородства или испытанием? Он вспомнил, как однажды, будучи ребёнком, наблюдал за тем, как ставят под сомнение слова взрослых; тогда ему казалось, что истина – это маленькая жемчужина, которую можно потерять в песке разговоров; но теперь, в тридцати шагах от той земли, где, быть может, мать ждала ответа, жемчужина стала тяжёлой и болезненной.
Вдруг на горизонте показалась голубая линь моря, и вода как будто задышала; зарниц не было, но было нечто похожее на предвестие. При свете бледного утра лодка встала и, приближаясь к острову, обнажала свои скелеты – те самые тайны, что всегда у моря: острых, лаконичных, лишённых мягких прикрас. И чем ближе они подходили, тем сильнее в душе Луи росло это, трудно объяснимое, чувство, что всё, что случится, будет не просто наказанием или откровением, а подлинным экзаменом для его собственной сути.
Разве не было в нём желания закрыть глаза и вернуться назад? Да, было. Но был и другой порыв – порыв, который труднее объяснить словами, – желание знать, наконец, кто он есть в мире, где мать может исчезнуть, а благородство может быть маской. Он слышал в себе голоса прежних лет, обвиняющие и прощающие одновременно. И всё это время, пока яхта катилась у края земли, пока крылья чаек стучали, как бы напоминая живым о своей свободе, Луи чувствовал, что ходит по краю пропасти: то ли он сделает шаг назад и останется в иллюзиях, то ли шагнёт вперёд и откроет дверь, из которой, может быть, выйдет не знание, а ещё более страшная неясность.
Яхта остановилась. Казалось, природа задержала дыхание. Луи встал, облокотился о перила, и в том последнем мгновении, перед тем как ступать на остров, он испытал – и это было главным, – ощущение, которое трудно назвать иначе как предчувствие суда. Не суд людей, не суд закона, но суд внутренний, древний, тот самый, который взыскивает с человека не за отдельные деяния, а за то, что он не умеет любить до конца, не умеет видеть до конца, не умеет молиться до конца. И когда шлюпка, опущенная в воду, качнулась и понесла их к берегу, Луи почувствовал, что чужие глаза, чужая совесть и чужие истины теперь будут тесно соседствовать с его собственной; и это соседство было и обещанием спасения, и угрозой. Как в романе, который ещё не написан, а уже навис над ним своей судьбой, он шагнул на влажный песок острова, и в этот шаг вошло всё: надежда, страх и смирение, смешанные в одно тёмное, но необходимое намерение узнать правду – какой бы цена за неё ни взималась.
Остров был каменным не только по букве, но и по духу; и это было видно сразу, как только, продержав дыхание, подходишь к берегам. Скалы тут не играли формой и не украшались лишними изгибами; они выросли из моря гордыми, тяжёлыми блоками, как будто кто-то долотом и молотом вытесал из вечности один простой, неумолимый приказ – стоять. Их поверхность, взъерошенная ветром и солёной пеной, блестела местами, как металл, и в этих отблесках чувствовалось не солнце, а какая-то внутренняя холодность; и потому остров казался не землёй, которая даёт, а каменной мыслью, которая требовала ответа.
Дорога, если можно было назвать дорогой ту полосу, что петляла вдоль обрывов, не вела ни к жизни, ни к отдыханию; она вела к вершине – к особняку, где лорд Уильям Мортимер держал свои тёмные и блестящие думы. Шаг за шагом ты поднимаешься, и каждый шаг напоминает себе о том, что ты не просто покоряешь высоту, а приближаешься к суду: низко лежащий прибой шепчет о беспомощности, о бренности вещей, а ветер, свистя и рвя плащи, кажется, говорит такое, в чём не нужна ни одна человеческая нитка слов – он говорит о влечениях, страстях, о тех неумолимых цепях, из которых не выйти, сколько ни беги.
Особняк этот сидел на вершине как коронованный ум, и корона его была сплошь тяжёлыми карнизами, зубчатыми балюстрадами и тёмными окнами – окнами, в которых не отражалась ни даль моря, ни ближний скалистый склон, а только внутренний жар каменного дома: глаза хозяина, который смотрит не на мир, а на сам себя. Снаружи – строгая, почти суровая архитектура, без излишеств и без приветливых украшений; но именно эта суровость усиливала ощущение, что внутри спрятано и много богатства, и много вины, и много одиночества. Казалось, что дом питается тем единением противоположностей: благородство – формой, низость – содержанием; и что чем выше поднимешься по его ступеням, тем тягостнее будет тяжесть духа.
Ступени – как в соборе, широкие, утомительные – вели в вестибюль, где воздух был плотен и прохладен, и где цепь звуков – скрип досок, шёпот тканей, удалённый стук часов – создавала порядок, столь же неукоснительный, как и закон. Стены, облицованные тёмным деревом и расшитыми орнаментами, хранили запахи: смесь воска, старинной бумаги, тлеющей свечи и редкой лаванды, которую привозили из материка, – и всё это вместе давало ощущение присутствия памяти, будто дом – это не просто набор комнат, а целый архив человеческих поступков и заблуждений. Величие комнат удивляло – потолки высоки, картины в тяжёлых рамах, портреты предков, во взглядах которых пряталась стальная воля и какая-то усталость и жестокость одновременно. И чем больше смотришь на их лица, тем явственней понимаешь: по этим лицам перечитывают книгу наследственных долгов и грехов.
Комнаты жили своей особой, мрачноватой жизнью: в библиотеке, где книги стояли плотными рядами, воздух был наполнен не только запахом бумаги, но и тем чувством, которое можно назвать болезнью сознания – это была болезнь поиска смысла, которому не дают покоя ни благородство, ни богатство. Книги, казалось, шептали о прежних сплетнях, о тайнах, о тех поступках, о которых предпочитали молчать при свете, но о которых говорили шёпотом в коридорах. В залах, где стояли мебельные ансамбли строгих линий, можно было услышать, как мрачно поскрипывает кресло, если в нём садился тот или иной член фамилии; и было в этих звуках что-то нотационное, как будто дом вел счёт всем падениям и спасениям своих обитателей.
Сверху же, с самой крыши, открывался вид, не похожий на вид с обычных усадеб – это был панорамный приговор: с одной стороны – море, то безжалостное зеркало, с другой – острые зубья скал, а внизу мелькали маленькие лодки, как жалкие свидетельства человеческой слабости. Воздух тут разрежен; каждый вдох кажется подвигом; и все те виды, что открываются, будто бы приговаривают: «Ты – ничто, и всё, что ты станешь творить, будет происходить под моим надзором». Это надзор без лица, без формы, но с тем влиянием, которое давит не меньше, чем железо.
Лорд Мортимер держал свой дом так, как держат на вершине камня птицу – сдержанно и властно; но в его власти таилась не только забота о состоянии имущества, но и диктат внутреннего порядка, где каждая мысль взвешивалась и каралась, если выходила за пределы дозволенного. Служанки ходили по коридорам как тени, помня за собой шаги прошлых поколений; хозяин света – большой зал, где столы ложатся в ряд, а лица обесцвечены мыслями о власти и бессмертии – это была сцена, на которой жили люди, привыкшие к той тяжести, что даёт высота, и к той пустоте, что рождается в венах одиночества.
И в этой возведённой над морем крепости было что-то не только величественное, но и страшное: ведь владение вершиной – это владение точкой, откуда ясно видеть падение; а те, кто привыкли смотреть сверху вниз, со временем начинают видеть лишь свое собственное отражение в глазах других. Остров и дом – вот как бы единый образ: камень, что хранит и молчит, и дом, который говорит, но говорит не языком утешения, а языком требований. И когда ты стоишь на берегу и смотришь вверх, на этот дом – на этот высочайший и так же безжалостный суд, – чувствуешь, что даже ветер, что тут свистит, – не единственный свидетель, а лишь низкородная прислуга великой и вечной силе, которая, словно судьба, наблюдает и выносит свой, молчаливый приговор.
На небольшом, полу гнилом причале были пришвартовано еще несколько яхт, с которых стали выползать ленивые зеваки, как было понятно, это были гости лорда Мортимера. Среди них была Эмили Хиллсборроу – английская герцогиня, приближённая королевы Англии. О происхождении Эмили мало что известно. На политической арене она оказалась после свадьбы с пожилым английским аристократом, вероятно, вступив в брак по расчёту. Герцогиня действует осторожно, но выступает за свободу личности, придерживается современных взглядов и пользуется большим уважением знати. Сначала Эмили была любимой посланницей королевы, а потом стала личным секретарём премьер-министра Уильяма Питта. Это назначение породило массу слухов и вызвало всеобщую зависть. Эмили, уже бывавшая ранее на острове, с радостью приняла приглашение сэра Грегори на знаменитый приём, который в очередной раз устраивал лорд Мортимер.
Эмили стояла так, словно сама судьба её была напечатана на лице; не то чтобы печать была груба или вызывающе орнаментальна – напротив, она была тонка и мучительна, как почерк человека, привыкшего к великому напряжению мысли. Лицо её было ясно очертано, как профиль на мраморе: высокий лоб, не слишком выдающийся, но широкий в том, что он обещал – не пустую гордость, а труд ума и непрестанную работу сознания. Волосы её— не просто украшение, а покров, который таил и защищал; тёмно‑каштановые, с золотистыми проблесками в лучах редкого солнца, они убраны были так, что казалось: она не хочет и не может позволить им мешать делу мысли, но при этом каждое прядь лежала по‑своему гордо, с тягой к порядку и прихотью легкой своевольности.
Глаза Эмили – это то, чего не забудешь, если однажды встретил их взгляд: большие, ясные, серо‑стального оттенка, в них горел не только ум, но и постоянное, вялое движение души – то любопытство, которое не удовлетворяется простыми ответами, то горение, что не позволяет слепо подчиняться лжи. Взгляд её был испытующим, как правило судьи, но не жестоким; он мог разглядеть в человеке не только обман, но и стыд, и возможно – спасение. Когда она улыбалась, улыбка та была не праздной, не «светской»: она приходила, как уверенность еще раз повторить своё внутреннее «да» миру, и в ней слышалось нечто похожее на обет – «я стану услышанной». И вот что удивительно: губы её, тонко очерченные, умели быть и мягкими, и строгими, и тем самым прибором, который, казалось, знающий люди держат наготове, чтобы пощадить и наказать, – по необходимости.