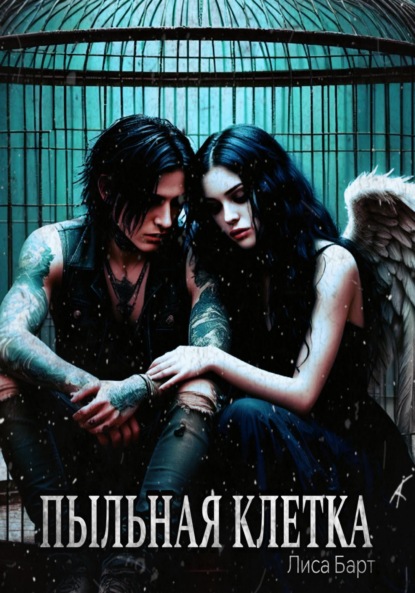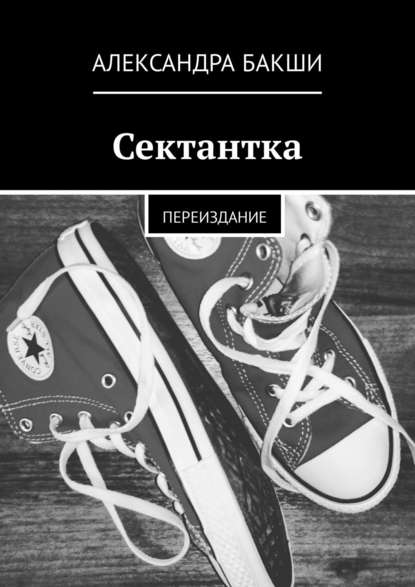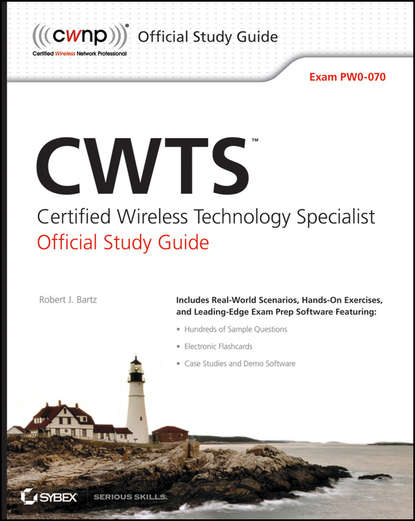Демон за столом
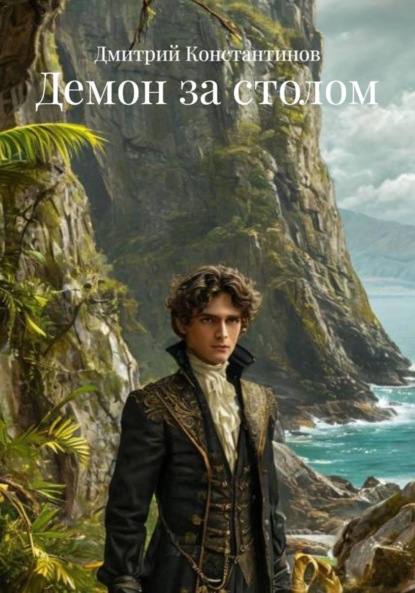
- -
- 100%
- +
Шея у неё была стройна, почти фарфоровая, но с теплотой живого тела; она держала голову прямо, с достоинством человека, который осознаёт свою цену, но не благодарище. Тело – не вызывающее, но изящное; походка сдержанна, как у человека, привыкшего к выходам при дворе, но в ней чувствовалась свобода: шаги не разбрасывались на показ, они были осмотрительны, почти экономны, будто каждое движение экономило силу для дела ума. Одежда Эмили заслуживала отдельного слова: она выбирала ни роскошь для хвастанья, ни скромность для сокрытия, а меру – и в этом тоже была её гордость. Платья её отличались строгим вкусом, кроем, который подчёркивал линию, не вульгаризируя тела; ткани – дорогие, но не кричащие; украшения – аккуратно подобранные: один‑два камня, знающие своё место, как сдержанный аккорд в симфонии. Всё это говорило о женщине, воспитанной в высшем свете, но не пленённой им до самоуничижения.
Рука её, та самая правая, которой она писала письма премьер‑министру, была тонка, с пальцами правильной формы; в ней чувствовалась сила, которой не всякая грубость сравнится: она умела не только гладить пергамент или трогать роскошь чаши, она умела держать ответ, требовать и убеждать – и делала это так, что даже противники её неизменно замечали: «у неё ум и железная воля». Голос Эмили – не громогласный, но уверенный; он звучал скорее внутренней нотой, чем внешним оркестром: тихо, но так, что слова проникали в сущность слушателей, и подчас они, не ведая почему, соглашались с тем, чего раньше не хотели принять.
И всё же в её облике был едва заметный след скромности, как будто где‑то под слоями придворной школы и полезных манер таилось нечто старое, почти забытое – корни, о которых она не говорила. Внезапные на её лице проявления сентиментальности, мгновенные вспышки усталой печали – всё это говорило о том, что красота её не только внешняя, а оттого и сильнее: она не ради внешности живёт, а потому внешность её обнажает внутреннее напряжение. В нём и любовь к свободе личности – не декларация, а боль, проникшая в плоть. В нём и та осторожность, с которой она действует: осторожность умеющего считать цену каждому шагу, чтобы не потерять того малого, что ей дорого, и в то же время сохранить верность своим убеждениям.
Если говорить кратко, но точно: Эмили Хиллсборроу – красивая не по нарочитому счёту, а как удостоверение: красива умом, и ум её виден в лице; красива достоинством, и достоинство это не маска, а натура; красива состраданием, пусть и скрытым; и потому её образ вызывает и уважение, и лёгкую зависть, и трепет – не от пустой привлекательности, а от той силы, что умеет сочетать светский блеск с внутренней правдой и которую люди, привыкшие к внешним знакам власти, так часто не понимают и потому боятся.
Говоря о сэре Грегори, влиятельном английском аристократе, или как его называют иначе в определенных кругах барон Ноттингем, который уже был на острове несколько недель, это человек, который защищает интересы британской короны, распространяя влияние Соединённого Королевства по всему миру и помогая уменьшить государственный долг. При его участии были приняты важнейшие экономические решения: от основания успешной Ост-Индской компании до размещения испанских торговых постов в Америке. Барон оказывает большую поддержку рабочему классу, открывая школы для бедных детей, которые, по его мнению, должны привести страну к новой промышленной революции. Сэр Грегори никогда не упускает возможности познакомиться с новыми людьми на собраниях своего друга, лорда Мортимера.
Также не причале Луи де Рише заметил Его Высокопреосвященство кардинала Джузеппе Пьяджи – посла папы Пия VI. Он выдающийся оратор, Джузеппе Пьяджи посвятил свою жизнь служению Римско-католической церкви. Узнав о его образованности и увлечении философией, папа римский тайно нарёк Пьяджи кардиналом «in pectore». Пьяджи находится в доверительные отношения с Пием VI и помогает ему направлять верующих. Пьяджи прибыл в особняк по приглашению сэра Грегори, желая повидать своего старого знакомого лорда Мортимера и представить интересы Ватикана.
Он стоял на причале как посланец не только Святого Престола, но и самой истории – не крикливый, не театральный посол, но тот, чей приход ощущается сразу, как будто чужая земля получает внезапно знак того порядка, который не всегда виден глазу. Его Высокопреосвященство кардинал Джузеппе Пьяджи был человеком, в облик которого вошли и римский купол, и монастырская свеча, и холод палат где читают философов; в нём было столько же духовной суровости, сколько и жизненной выучки, – и об этом говорил каждый штрих его лица, каждая складка плаща, каждое движение руки.
Лицо у него было продолговатое, не молодое уже, но не старое по тем меркам, которые мы привыкли называть старостью – скорее испытанное: как если бы его кожу обкатывали ветры и идеи, молитвы и споры. Лоб высокий, смёрзшийся в привычке думать, с тонкими, но упорными морщинами, говорящими о долгих ночах молитвы и долгих часах полемики; он словно хотел сказать: «я знаю цену мысли и плату за слово». Глаза – вот что прежде всего бросалось в глаза и заставляло понимать, что перед тобой не простой священнослужитель, а человек слуха и резона. Взгляд их был тёпло‑тёмный, не блёклый и не дряхлый: в глубине карих глаз таилась искра – не солнечная, а скорее клейкая, та, что держит и привлечённого, и сомневающегося; этот взгляд умел слушать и умел быть орудием убеждения. В нём однажды увидишь мягкость, как у старца, склоняющегося над грешником; в другой момент тот же взгляд превращается в нож аккуратного вопроса, которым он вскрывает мысль собеседника и находит в ней скрытые мотивы.
Нос его был прямой, – нос человека, привыкшего командовать и одновременно подчиняться великой традиции. Рот – тонко очерченный; губы нечасто улыбались, но когда улыбка случалась, она не была ни лицемерной, ни пустой: она была тёплой, почти детской, как у человека, которого радует чистота души в других. Борода тонкая, аккуратно подстриженная, не служила украшением, а была знаком порядка, который он навёл в себе прежде, чем явить миру. Волосы, уже с проседью у висков, убраны аккуратно: они не мешали его жестам, зато подчёркивали, что человек этот – не из тех, кто любит суетную показуху.
Одеяние кардинала – не просто цвет и ткань; оно было как бы театром, в котором разыгрывается вечная драма: красный плащ, но красный не праздного блеска, а животворящей, почти тусклой красоты, как у старой, но почтенной мантии; митра или тёмная шапка – здесь неважно, ибо символ важнее формы – показывали ранг, однако этот ранг был не напускной. Материя одежды шуршала тихо, как страницы богословских трактатов; при каждом движении казалось, что в складках спрятаны и терпение, и приговор. Воздух причала, солёный и свежий, пробивался сквозь ткань, и это живое дуновение морской стихии словно сталкивалось с усталым духом человека, привыкшего к бесконечным коридорам власти и ряду сводов священного ритуала.
Руки у него были удивительно выразительны: длинные пальцы, чуть сухие, не которых видна привычка держать не только чашу Евхаристии, но и перо, и палатку переговоров одновременно. Этими руками он умел благословлять и умел считаться с деньгами, умел писать проповеди и дипломатические посланья. Они говорили то же, что и голос: голос его – низкий, ровный, с мягким итальянским акцентом, но не сладострастным; он раздавался свободно и проникал в уши слушателей, как звон наполненного минарета, и тот, кто слышал его однажды, вспоминал не слова, а их вес – как будто каждое слово было присяжным решением. В речи его чувствовалась философская выучка: цитата, афоризм, тяжёлое словесное украшение – и всё это он умел бросить в разговор так, что даже скептик ощущал прилив уважения.
И всё же, при всей внешней собранности и достоинстве, в нём таилось нечто, что Достоевский назвал бы «человеческим», – не добродетельная чудность, а скрытая слабость, не грех, а память о немощах. Иногда, когда он останавливался и смотрел на волну, на парус, то в его взгляде появлялась печаль, не объявленная никому; была в этой печали и тревога о судьбах верующих, и, может, тень страха перед признаками вселенских перемен. Эта тень не портила его величия; она, напротив, делала образ ещё более правдоподобным и потому страшным для тех, кто считал силу только в орденских лентах и дворцовых титулов.
Таков был кардинал Джузеппе Пьяджи на причале лорда Мортимера: человек из другой сферы, но не чужой этой земле; человек, который приносил с собой и молитву, и мысль, и неизбежный вопрос о том, кто прав и кто виноват в мире, где власть и вера так часто идут рука об руку, и где слово может спасти, а может и разрушить.
Анализ: в исходном фрагменте заложены все необходимые драматические элементы – знакомство «заочно», чувствительная неловкость первых слов, старые связи и тайны матери, внезапный приступ и видение. Чтобы текст зазвучал в духе Достоевского, нужно усилить психологизм, сделать речь персонажей более взвешенной и в то же время выкристаллизовать внутренние монологи Луи: боязнь забвения, тяготение к семье, предчувствие беды. В диалоге – чуть больше иронии и смысловых пауз; сцена на причале должна потемнеть, ощутиться давлением ночи и истории; галлюцинация – превратиться в предзнаменование, в суд совести. Ниже – переработанный текст.
Со всеми упомянутыми персонами Луи де Рише был знаком лишь издали – из рассказов материной уст. Но рассказ – это ещё не знакомство: рассказы могут подменять лицо человека, придавать ему черты, которых у него нет, и тем более утаивать те черты, которые имеют значение. Сам же Луи, занятый своими мелкими, но постоянными делами, не находил доселе случая познакомиться с ними лично; и вот теперь, когда случай сам, как волна, поднёс его к причалу, он чувствовал – и чувствовал не без робости, – что сейчас откроется некая сцена, – сцена, которую он долго к себе приговаривал.
Он аккуратно отряхнул штанину – жест пустой, и вместе с тем значительный: будто бы отмахнулся от собственной неустроенности – и подошёл к двум стоящим у парапета лицам, которых разговор, по-видимому, захватил всерьёз. Герцогиня Эмили Хиллсборроу и кардинал Джузеппе Пьяджи вели беседу так сосредоточенно, что можно было думать: речь идёт о вещах, которые требовали не только голоса, но и внутренней готовности к ответу.
– Для чего нас собрал лорд Мортимер, вам не известно? – спросила Эмили. Вопрос её был вежлив и настойчив; в нём слышалась привычка держать людей в курсе событий, – привычка хорошая и опасная одновременно, ибо она подразумевала знание хода жизни: кто где, кто с кем, и с какой целью.
– Нет, дорогая, – ответил кардинал ровно, с таинственной спокойной вежливостью, которой путьили люди, видевшие много и не удивлявшиеся уже ничему. – О цели мне ничего неизвестно. Я получил лишь письмо от сэра Грегори с назначенной датой отплытия яхты.
Разговор прервал лёгкий, но уверенный голос. Луи выступил вперёд и поклонился, едва заметно, но так, как того требует воспитание, и как того требуют тайные, давние знамена, под которыми он родился.
– Доброй ночи, господа, – сказал он. Их головы одновременно повернулись; обменялись приветствиями, и эти приветствия были как ниточки, которыми люди осторожно измеряют друг друга.
– Вы, если я не ошибаюсь, герцогиня Хиллсборроу, а вы – кардинал Джузеппе Пьяджи, – заговорил Луи смущённо, – у нас не было случая познакомиться, но я много слышал о вас от моей матери, Сары де Рише.
Эмили оживилась, и в этом оживлении прозвучала та кокетливая нота, которую знали, пожалуй, только люди, привыкшие к салонной жизни.
– Ах, вы, – воскликнула она, – вы, должно быть, Луи де Рише. Неужели вы забыли нашу встречу в Париже, на приёме у короля?
Луи посмотрел на неё с искренним, почти детским недоумением. Взгляд его был честен, и в нём, может быть, проглядывала некоторая смущённость: как же – забыть лицо, которое, по словам матери, оставило след в памяти столь многих?
– Вряд ли бы я забыл столь экстравагантную особу, – сказал он, стараясь улыбнуться так, чтобы это не звучало оскорблением, – но признаюсь: не помню лично.
– Очень жаль, – ответила Эмили с лёгкой досадой и уже почти с дружелюбной лаской, – в тот вечер мы действительно имели честь обменяться парой слов.
Луи смутился ещё более и, краснея, стал извиняться; его слова шли неловко, звучали как оправдание перед самим собой: – прошу понять, отец мой – мир дел, и мир его часто крадёт мне память о мелочах.
Кардинал наблюдал за ним тихо; так наблюдают люди, у которых память длиннее речей и которые умеют ставить личность в круг семейных связей.
– Луи де Рише? Сын Сары де Рише? – произнёс он, будто повторяя имя как ключ к чему-то более глубокому.
– Да, – ответил Луи. Он оторвал взгляд от одной точки и на мгновение задержал его на кардинале; взгляды эти, иногда, говорят больше слов.
– Я давно знаком с Сарой, – продекламировал кардинал, и в словах его слышалась та торжественная интонация, которой пользуются люди, выдающие свои связи как заслугу. – Ещё тридцать четыре года назад она возглавила один из самых влиятельных тайных обществ – Золотой орден. У нас много общих дел и знакомых. Но скажите, зачем вы прибыли, юноша? Кто вас пригласил?
Луи ответил коротко:
– Мёртимер. Лорд Мортимер выписал мне приглашение.
На эти слова кардинал вздрогнул не столько от удивления, сколько от того внутреннего движения, которое случается у человека, привыкшего наблюдать за нитями власти.
– Как?! Сам лорд? – воскликнул он, и в этой простой реплике проявилось и удивление, и недоверие.
– Могу показать приглашение, – предложил Луи.
– Не нужно, – помахал рукой кардинал, – я вам верю. Привлекает меня и удивляет иное: что заставило самого лорда пригласить вас? Обычно этим занимается сэр Грегори.
Луи ещё раз посмотрел по сторонам, будто проверяя, не подслушивают ли их тени.
– Мне сказали, – произнёс он наконец, – что моя мать провела на этом острове несколько недель. А затем… пропала на несколько дней.
Эти слова повисли в воздухе, и от них стало темно на причале, как будто ночь вдруг сжалась, стала ближе и гуще. Эмили глубоко вздохнула; ей было дано говорить о Саре иначе, не просто как о матери молодого человека, а как о фигуре, чей шаг отзывается эхом в политике и в тайнах.
– Ох, – произнесла она, – я надеюсь, что с ней всё в порядке. Я знакома с мисс де Рише – как и многие здесь. Её деятельность, её положение, её знания охватывают всякую сторону общественной жизни. Она – человек с железной волей; её влияние простирается на Америку, Европу и Центральную Африку; она основала в ордене оккультный кружок. Без неё не принимается почти ни одно решение; короли и президенты советуются с ней. Её исчезновение может потрясти многих.
Эти слова, произнесённые спокойно, имели в себе оттенок ужаса – неотреагированного, скрытого ужаса от мысли о нарушенном порядке. Луи поблагодарил. Ему было приятно и тяжело слышать похвалу матери, и сердце его сжималось от неожиданной гордости и тревоги.
Кардинал положил руку юноше на плечо – жест короткий, но полный человеческого участия.
В тот момент к группе приблизился слуга: молодой человек модно одетый по французской манере, в лице его – металлическая маска, через прорези которой виднелись только глаза; глаза эти были усталые и пустые, как глаза тех, кому приходилось слишком рано смириться со своей ролью. Он произнёс сухо:
– Господа, прошу пройти в дом. Ваши вещи доставят позже в комнаты.
Кто-то кивнул; и толпа, ведомая невидимой, почти религиозной послушностью, двинулась за слугой. Луи сделал несколько шагов, и вдруг – будто кто-то резко повернул вентиль его сознания – он ощутил тяжесть в голове, не как боль, а как давление, исходящее изнутри; затем, как будто в его череп вскинула стая голосов: сотни, тысячи голосов, не разобранных, рвущихся и кричащих какой-то бред. Эти голоса неслися, как шквал, и от них Луи рухнул на колени, закрыв глаза.
Перед его внутренним взором возникла картина: незнакомая раньше комната, суровая лампа и мать – Сара де Рише, с пистолетом в руке; напротив неё – Эмили; она что-то доказывает, молчит и суетно жестами пытается убедить. Сара, очерченная железом своей воли, кажется, не слышит, или слышит только то, что решено. Рука её дрогнула – и в тот миг, в дверной проём вбежал сэр Грегори с несколькими слугами. В комнате воцарился крик – и сразу после грома выстрела голоса утихли, как будто кто-то выключил громкоговоритель.
Луи открыл глаза. Его память была пустая, как стул, с которого вдруг сорвали чехол; он не мог связать последнюю минуту с предшествующей. На верхней губе горчил стальной привкус – кровь из носа; рядом стояли встревоженные фигуры: кардинал, герцогиня, слуга. Они смотрели на него с тревогой и сочувствием.
– Мсье де Рише, что с вами? – спросила Эмили, и в голосе её звучала искренняя забота, которая смягчала всё – и положение, и тайну.
– Не знаю, мисс Хиллсборроу, – сказал Луи, и, в его словах прозвучало ложное успокоение: – наверное, устал.
Он не стал рассказывать о видении. Было в нём нечто, что не подлежало немедленному изъяснению; надо было прежде унять самую себя, рассудить, отмерить: это сон ли, предупреждение ли, игра предчувствия или призрак вины. Эмили, не настаивая, протянула ему носовой платок; он принял его, вытер губы, в которых ещё оставался привкус металла. И четверо вошли в дом – вошли так, будто каждый таил в себе, помимо наружного движения, ещё и некоторую внутреннюю сцену: страх, надежду, любопытство – всё это теснилось у них в груди, и нечего было делать, как притвориться, что ночь – всего лишь ночь, дом – всего лишь дом, а приглашение – всего лишь приглашение.
Холл дома лорда Мортимера был вовсе не тем простым, гостеприимным приёмным, какие бывают у людей средних и скромных; это было нечто иное – вместилище, хранилище, судилище даже, где каждый шаг отдавался тяжёлым приговором, а каждый взгляд нёс на себе метку давно свершившегося и неотвратимого. Ворота входа распахивались в просторную, чуть низкую комнату, вымощенную чёрным камнем, по которому плясали огненные блики – и первым, что настойчиво, нестерпимо входящему бросалось в глаза, был громадный камин. Нельзя было назвать его простым; это была какая-то чревовещательная пасть дома, огромная, чёрная лаща, из которой, как из живого органа, выходил жар и голос – треск поленьев, шёпот пламени, и всё это вместе создавало особый, почти религиозный звук, заставлявший сердечную мышцу биться иначе, глубже и тревожнее.
Над камином, в том месте, где у простых людей висел бы семейный портрет или часы, возвышалась бронзовая статуя Зевса – не спокойно застывшая фигура, а словно вырванная из самой стены, как будто камень раскололся, и бог устремил руку наружу, рвался, пробивался, освобождался. Бронза была тёмная, в зелёных отблесках старости, но в ней горел и блеск – блеск воли, силы, влекущей за собой страх. Лицо Зевса было сурово и неулыбчиво; глаза его, вылепленные в металле, смотрели не на людей, а через людей, как будто упрекая их в слабости, в мелочности их дел, – и этот взгляд был хуже всякой реальной тирании, ибо он не просил и не приказывал: он обвинял. Казалось, что бог этот не нов для дома; он жил здесь, как память о давних победах, как отпечаток гордыни, и в то же время был неким напоминанием о несчастье – потому что, где устраивают себе идолов силы, там часто таится страх перед её утратой.
Огонь в камине отбрасывал на статую тёмные, длинные тени; стены, облицованные коврами и старинными гобеленами, казались движущимися, и в узорах их иногда мелькали лица, не лица, а намёки на лица – старые хозяева дома, предки, чьи образы теперь сплетались с бронзой и пламенем в одну странную, живую ткань. Воздух был тяжёл от запаха смолы, старой пыли и неизъяснимой горчинки, которая всегда бывает у домов, хранящих более тайн, чем имели бы право хранить люди. В этом запахе было что-то от свечей и от книг, от табака и от тех ночных разговоров, которые лучше не повторять при свете дня.
А ещё в холле звучали шаги – редко, но ясно; шаги слуги, отечного, крепко стоящего на ногах, – и эти шаги отбрасывали от себя длинные эхо, как бы повторяя вопрос: кто ты, пришедший, и в чём твоё право ступать по этом пороге? Люди, когда входили, чувствовали себя услышанными не просто как присутствующие, но как подсудимые; и при свете пламени им казалось, что вся эта тяжёлая архитектура – камни, ткань, бронза – готова вот-вот промолвить приговор, вынести вердикт, определить дальнейшую участь. И была в этом что-то не столько сверхъестественное, сколько нравственное: подобные дома – зеркала человеческой души; чем больше в них золота и бронзы, тем отчётливее в них отражается тяжесть вины.
У камина на тот момент ютилось двое. Ранее упомянутый Сэр Грегори и седовласый, слегка полненький мужчина, лица которого не было видно. Слуга указала рукой направление господ к камину, а сам удалился для них в неизвестном направлении.
Опять же, говоря о Сэре Грегори – бароне Ноттингем – он присутствовал здесь, в этом доме, не как простой посетитель, не как случайный прохожий, а как некое необъяснимое явление, в котором смешалось и торжество власти, и почти дитящее сострадание; и в этом смешении – та самая внутренняя вражда, которую можно было бы боготворить или бояться. Рост его отмерялся не по сантиметрам, а по притяжению взгляда: высокий, но не громоздкий, скорее вытянутый, словно человек, которому пришлось сдерживать и направлять воли множество – воли чужих судеб и собственной строгой воли. Его лицо – странное, мягко-суровое, срезано было временем и привычкой к долгому напряжению: лоб широкий, немного нависший, в складках которого виднелась усталость не столько физическая, сколько нравственная; нос прямой, сужающийся к кончику – нос, которым, казалось, он делал пометки не на бумаге, а на людях; губы узкие, умело складывающиеся в улыбку, редкую и потому более опасную.
Глаза Грегори – вот что особенно тревожило: они были темно-серыми, не совсем холодными, но и не тёплыми – два наблюдательных суда, которые всегда выносили приговор раньше, чем человек успевал произнести слово в свою защиту. В них мелькало и деловое блескливое любопытство, и (неожиданно) детское, почти болезненное участие к судьбе бедняка; эти две вещи – рядом – делали взгляд одновременно ясным и виноватым. Волосы, тонкие, уже с проседью у висков, были расчёсаны назад с тотальной аккуратностью, что придавало лицу некоторую театральность, но и сдержанность; на щеках – бледность, как у человека, привыкшего к лампе и к бумагам, а не к открытым ветрам.
Он всегда одевался так, будто его одежда была продолжением служебной обязанности: тёмный сюртук без лишних украшений, жилет с приглаженным узором, густой платок у шеи – не для показной роскоши, а для обозначения порядка; перчатки – тонкие, кожа слабо блестящая, пальцы в них казались длинными и ловкими – такими, что могли и подписать указ, и пожалеть руку бедняку. Когда он снимал перчатку – делал это едва заметным, почти робким движением, как будто открывая внутренний шов своей души; но стоило руке коснуться чашки чая или школьной тетради, и в движении возникал весь его расчёт, вся его воля, вся та точность, с которой он умел строить империи и распределять благодеяния.
Есть в нём что-то священное и тираническое одновременно; он похож на проповедника, ставшего финансистом, и на финансиста, подвергшегося искушению идеалом. На лице его иногда, в минуты молчаливого раздумья, появлялась тень мучения – не от физических страданий, а от того знания, что каждая добрая акция питается не только сердцем, но и сметой, и что каждая жестокость оправдывается пользой. И это знание делало его внешность притягательной и отталкивающей: благородная осанка, голос низкий и точный, с тем особенным английским тоном, который одновременно указывает на воспитание и скрывает недоверие. Вся его внешность – как знак, предупреждающий, что перед тобой не просто человек, а властитель, который умеет любить и уметь распоряжаться любовью так, чтобы она стоила дешевле доллара и дороже судьбы.
Трое подошли к тем, кто сидел у камина, и подошли не так, как подошли бы к простому светскому общению, а с той неловкой, почти священной робостью, с которой люди входят в чужую беду и ищут слова, способные её унять или, по крайней мере, не разжечь ещё больше. В комнате повисла та едва ощутимая тишина, которую, как известно, несут с собой не только мысли, но и обязанности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.