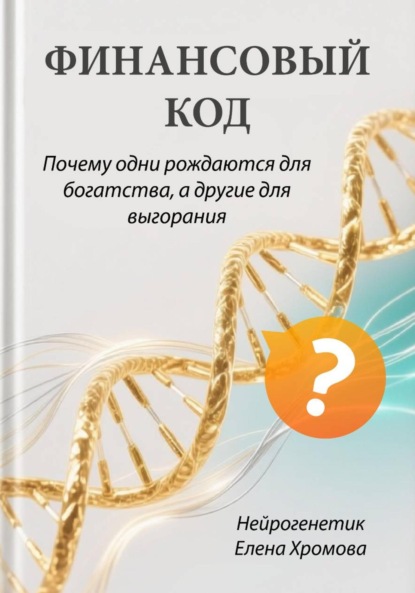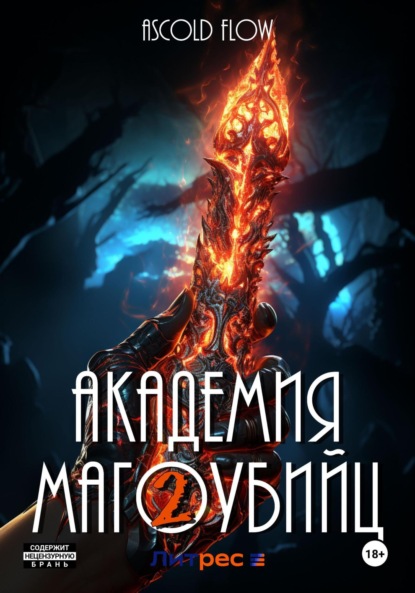Логика религии. Почти научные доказательства существования Бога
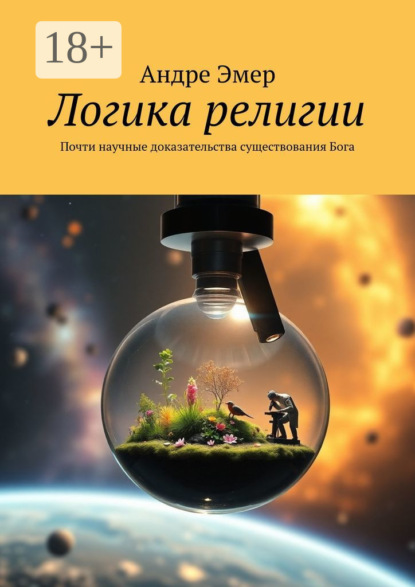
- -
- 100%
- +

© Андре Эмер, 2025
ISBN 978-5-0067-0613-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Логика религии
Почти научные доказательства существования Бога
Часть I. Логическая основа
Глава 1. Иллюзии.
Вера или наука
Казалось бы, сопоставление слов «логика» и «религия», вынесенных в название книги, выглядит странным. Принято считать, что вопросы религии должны приниматься на веру – без подтверждения фактами или логическими выкладками. Логика же считается прерогативой научного метода познания мира. Очевидно, однако, что никакого монопольного права на логику наука не имеет. Одни и те же принципы логичности применимы и к познанию физической материальности, и к «тонким материям», если допустить, что мы оперируем реально существующими, принципиально познаваемыми объектами, понятиями, категориями и величинами. Просто в данный исторический период у религии и науки различны как инструменты познания, так и масштабы познаваемого.
Наука оперирует тем, что можно «пощупать» физически – с помощью органов чувств или приборов. Вера же ведет разум далеко за пределы очерченного наукой рубежа, позволяя исследовать просторы мироздания, до которых наука доберется еще не скоро.
Что же такое само понятие «веры», какой смысл в него вкладывается в этой книге? Верить – это допустить существование круга вещей, который материалистическими методами исследования определен быть не может. Означает ли это, что они принципиально не познаваемы? Нет, не означает. Но поскольку убедиться материально в их существовании мы не можем, нам следует обратиться к потенциям тонкоматериальным, скрытым в нас самих.
В начале духовного пути мы не обладаем инструментарием тонкоматериальных органов чувств, позволяющих воспринимать категории нефизического порядка. И, обычно, не обладаем личным религиозным опытом. Однако если бы мы понемногу сумели развить свои внутренние «духовные приборы», то убедились бы в существовании некоторых нематериальных, но реальных, аспектов бытия на личном опыте. Развитие это – процесс небыстрый и требующий усилий. И эти усилия невозможны без того, чтобы совершить первый осознанный шаг на этом пути – допустить саму возможность достижения результата. Если не верить в то, что ты делаешь, психический блок, которым, по большому счету, и является неверие, не позволит сделать ровным счетом ничего.
Что имеется ввиду, когда мы говорим «религиозный»? Вовсе не отношение к той или иной конфессии. В рамках этой книги, религиозный взгляд на мироздание – это такой взгляд, при котором идея, что видимый нами физический мир является единственной реальностью, кажется несостоятельной. И наоборот, допускается существование широкого круга материальностей иного порядка, напрямую нами не воспринимаемых, но зачастую оказывающих на наш мир серьезное воздействие.
Хватит пока определений. Замечу лишь только, что самый заядлый материалист, считающий себя человеком, трезво смотрящим в лицо действительности, на том только основании, что не верит в то, что невозможно «пощупать руками», глубоко ошибается. Он точно так же живет в мире иллюзий, как и каждый из нас. Мир, который он воспринимает, лишь картинка, созданная его разумом на основе комплекса поступающих в мозг – и интерпретируемых им – сигналов органов чувств. Эта картинка весьма неполная, хотя бы потому, что мы воспринимаем очень узкий спектр волн, вибраций и излучений. Кроме того, если нарушается сигнал или он не так интерпретируется, картинка может очень и очень меняться.
Глава 2. Иллюзии.
Концепции и стены
В психиатрии известны случаи, когда пациенты раз за разом расшибали лоб о стену, пытаясь пройти ее насквозь, потому что были убеждены – стены нет. Здесь мы, конечно, имеем дело с болезнью. Но оцените масштаб заблуждений этих несчастных – они имели глаза, чтобы видеть, но концепция мироздания, выстроенная их психикой, была столь сильна, что разум игнорировал прямые указания зрения о существовании стены!
А кто сказал, что мы с вами полностью здоровы или даже в полном смысле зрячие? Да, мы в состоянии увидеть материальный объект и не расшибить об него лоб. Но можем годами расшибать лоб о собственные заблуждения, совершать одни и те же ошибки в личной жизни, с родней, в работе и недоумевать – почему нам так больно!?
В глобальном смысле мы тоже живем в рамках определенной концепции мироздания – в целом совпадающей для представителей одного культурного и социального слоя, но, все же, во многом индивидуальной. Эта концепция начинает складываться в самом начале жизненного пути, проходит стадии накопления опыта, кристаллизации идей и понятий о том, как устроен мир, какие силы им движут, какие действия индивидуума, применительно к себе и другим, являются правильными и неправильными. Постепенно отливаясь и затвердевая, концепция становится частью личности, во многом определяя ее земной путь.
Принципиальное отличие концепций условно больного и условно здорового человека в том, что концепция здорового в целом совпадает с концепциями других здоровых людей. У больного же психически она более индивидуальна, исключительна и не соответствует тому, что остальные люди считают реальностью.
Но и там, и там это, все же, концепция, а не сам мир.
Представим себе, что по каким-то неведомым причинам одна концепция – «здоровая», была заменена другой, той, что мы сегодня считаем «больной». И постулаты этой больной концепции люди вдруг стали исповедовать, соотносить с ней свои представления о действительности. И делают это не один несчастный человек и его лечащий доктор, а миллионы или даже миллиарды.
Вы скажете это невозможно? Но именно это уже много раз происходило в истории.
Древнегреческий философ Демокрит две с половиной тысячи лет назад развил учение материального атомизма, хорошо нам известное – о том, что мир состоит из крошечных частиц, атомов. Таких микроскопических, что они не могут быть видимы человеческому глазу. Из них состоят все предметы мироздания, они отделены друг от друга расстоянием, хаотично движутся в Великой Пустоте, притягиваются друг к другу и отталкиваются друг от друга, если приблизились достаточно сильно, а, соединившись, образуют сложные тела. У этой теории были свои последователи-философы. Но большая часть тогдашнего человечества, услыхав о ней, сочла бы Демокрита чудаком. А добавь он к этому немного эксцентрики (например, поселись он, как Диоген, в бочке), титул умалишенного был бы ему обеспечен.
Но сегодня теория Демокрита, в ее осовремененном, конечно же, варианте, исповедуется всем прогрессивным человечеством.
То же случилось с теорией о том, что Земля круглая и вращается, в семнадцатом веке пришедшей на ум Галилео Галилею. Известная история о том, что ученому пришлось отказаться от своих взглядов публично, невольно вызывает в нас возмущение. Однако для представлений того века Галилей был как минимум опасным мечтателем, посягающим на святое – представление о божественном мироустройстве. Возможность всего лишь отказаться от своего опасного бреда публично (и предаваться ему сколько угодно в уединении), расценивалась современниками Галилея как акт милосердия. Это и было актом милосердия, если учесть, что ответ он держал перед кровавой Святой Инквизицией.
Сегодня обе эти теории признаны истинными. Но очевидно, что с точки зрения человека Древней Греции или Испании семнадцатого века любой из нас, современных людей, со всем нашим набором представлений о реальности, выглядел бы сумасшедшим. Попади мы в те времена и вздумай поведать о реальном положении дел кому-нибудь из местных, последствия, скорее всего, не замедлили бы сказаться. Оставалось бы только желать, чтобы эта воображаемая машина времени закинула нас в Грецию, там к сумасшедшим относились терпимо. Попади мы в Испанию семнадцатого века, нас ждала бы плачевная судьба.
Отмечу, что в обоих случаях у «сумасшедших» или не существовало инструментария для убеждения современников в собственной правоте, или инструментарий этот не давал достаточно доказательств. И тем не менее, идеи их оказались живучими и преодолели века, прежде чем появились доказательства.
Что по-настоящему поразительно, и на что никакая наука не может дать ответ, как вообще могла возникнуть теория Демокрита?! Ведь он не имел ни подтверждений атомарной природы физической материи, ни инструментов для проверки своих тезисов. Просто абсолютно ничего, чтобы заподозрить дробность структуры вещества и убедиться в этом на опыте, кроме наблюдений за обычным миром.
Демокрит также не мог «вычислить» истину при помощи тех или иных математических манипуляций (как это, к примеру, произошло с открывателем Плутона Клайдом Томбо, вычислившим существование этой карликовой планеты). Каким же образом в кругу бодрствующего, осознающего, систематизирующего сознания Демокрита могла проникнуть идея, описывающая явления столь малые?
Создание теории относительности, три закона Ньютона, возникновение таблицы Менделеева – все это еще можно как-то представить, исходя из формулы: «На тот момент существовала определенная сумма знаний, неверно интерпретируемых предыдущими исследователями, которая сложилась в стройную систему, а затем была проверена с помощью доказательств». Но с теорией Демокрита этот номер не проходит.
Единственным логичным предположением пришлось бы считать прямую «доставку» ее в этот самый разум извне. Либо – наличие у самого Демокрита таких, выходящих за рамки человеческих, способностей, которые позволили ему заглянуть в суть вещей в буквальном смысле.
Почему же Демокрита не засунули в древний аналог смирительной рубашки и не поместили в психушку? В том числе потому, что в остальном он вел себя как нормальный человек. А если человек очевидно психически здоров, но высказывает странные идеи, он может оказаться прав…
Цель этого примера – убедить вас в том, что наши представления о мире есть лишь теория. Мы не знаем наверняка, как устроен этот мир, а верим в то, о чем нам когда-то рассказали. Картина мира формируется отчасти из личного опыта, отчасти из установок, которые дает нам среда нашего обитания – семья, школа, университет, рабочий коллектив и т. д. На нее влияет то, о чем мы регулярно слышим, о чем читаем в прессе, пабликах, смотрим по телевизору или в интернете, получаем по бесчисленным каналам информации. Наше сознание по большей части есть поле действия сонма логических утверждений, эмоциональных ответов на те или иные раздражители, представлений о правильности или неправильности тех или иных поступков, стремлений к определенным целям, вложенным в нас кем-то извне, но которые мы давно воспринимаем, как свои собственные.
Если представить, что история закончится прямо сейчас, можно было бы сказать, что накопленная интеллектуальная база и рожденные ею концепции наиболее близки к истинному положению дел. Однако если нынешний этап нашего общего существования – лишь этап, то с точки зрения человека 25-го или 27-го века наша концепция мироустройства может показаться такой же нелепой, какими кажутся нам сегодня представления о мире испанского инквизитора, судившего Галилея.
Мы живем в мире теории, а не истины. Теории, вложенной в наше сознание в ту пору, когда мы были еще очень легковерны, и прочно там засевшей. Более того, если разбить эту теорию, или картину мироздания, на составные части, выяснится, что она неоднородна. Значительная ее часть описывает ту текущую действительность, которая формируется прямо перед нами, и в которой мы принимаем деятельное участие. Это наша личная жизнь, работа, окружение, успехи и провалы, планы и цели, материальные вопросы, здоровье и т. д. Все то, что мы можем «пощупать руками», получив непосредственный опыт от взаимодействия с этими аспектами действительности.
Однако представления о мироустройстве в целом сформировано нами по большей части на основании тех данных, которые нам были переданы другими людьми и авторитетными институтами – школой, вузом, литературой, общепринятыми научно-популярными верованиями. И как бы нам не казалось, что эти теории верны, по-сути они точно так же приняты нами на веру, как 200 лет назад принимались российскими гимназистами на веру постулаты Закона Божьего и Ветхого Завета.
К тому времени, как мы начинаем мыслить более или менее самостоятельно, картина мира уже сформирована. Более того, на первый взгляд может показаться, что нет практической надобности ее менять – это лишь фон, на котором протекает наша жизнь. Если бы до сих пор наука утверждала, что Земля плоская и стоит на трех китах, на жизнь среднего человека это не имело бы сколько-нибудь серьезного влияния.
Но общие представления о строении мироздания приобретают огромное значение, когда человек выходит за пределы «жизни своего тела» и начинает задумываться о жизни вообще, о смерти и бессмертии, о добре и зле, нравственных законах и последствиях их нарушения. И вдруг выясняется, что от того, каким мы видим устройство мира, напрямую зависит наша судьба.
Глава 3. Иллюзии.
Иллюзия материальности
Мы привыкли ставить в упрек мистикам и идеалистам всех мастей тот факт, что предметы и понятия, которыми они оперируют, касаются сферы эфемерной, явления которой невозможно «потрогать руками». В противовес же их рассуждениям приводятся доводы материалистического характера.
Сам термин «материализм» происходит из понятия о материи – как о реально, объективно существующем мире, поддающемся фиксации нашими органами чувств либо механизмами. Все, что уловлено этими вспомогательными приспособлениями, тут же переводится в тот или иной вид материального. К нематериальному же принято относить широчайший спектр так называемых «тонких материй», в том числе субъективные переживания. От вдохновений, наитий, интуиции, любви, ненависти и других сильных чувств до явлений религиозного характера.
К нематериальному отношение у нас весьма выборочное. Не признавать наличие любви или вдохновения глупо – ведь мы постоянно сталкиваемся с их проявлениями. Однако степень их материальности (то есть возможности определить, из чего они состоят, и провести с ними пару-тройку научных опытов) нам непонятна. И до тех пор, пока наука не найдет способов эти вещи фиксировать и извлекать из них пользу, они остаются за скобками ее интереса.
О явлениях религиозного характера наука имеет одно мнение – это «опиум для народа» придуманный с целью манипулирования, и не более. Говорить об этом всерьез, значит, признавать свою научную, а то и умственную вообще, несостоятельность.
Но позвольте, а насколько материальна сама материя – исходя из накопленной на сегодня суммы научных знаний? Да ведь, если вдуматься, ничего в строгом смысле этого слова «материального» попросту… не существует. И все мироздание правильно было бы поделить не по тому, материально оно или нет, а по тому, способны ли мы зафиксировать те или иные проявления реально существующей действительности или нет.
Мы даже не можем в строгом смысле слово что-либо «пощупать руками», потому что при всем желании не способны никогда ни к чему прикоснуться. Из курса школьных физики и химии нам всем известно, что уже на молекулярном уровне каждая отдельная единица вещества никогда не соприкасается с другой. Не соприкасаются друг с другом не только посторонние предметы, но даже молекулы нашего тела! А все наши тактильные ощущения – только интерпретация сигналов органов чувств.
Если рассматривать процесс прикосновения руки, скажем, к стене с точки зрения механизма происходящего, мы увидим следующее. Молекулы нашего тела, будучи отталкиваемы молекулами, из которых состоит стена, создают давление на нервные окончания. В мозг идет сигнал, который интерпретируется им определенным образом. Затем сигнал посылается обратно и в руке возникает ощущение давления. Если путь сигнала прервется, мы не почувствуем этого давления. Если мозг интерпретирует его по-другому, например, хирурги «перепаяют» нейронную схему и подключат тактильные нервы к зрительным центрам мозга, мы ощутим прикосновение, как цветовой образ той или иной интенсивности.
В медицине зафиксированы случаи, когда в результате травм такая перепайка происходила, и человек ощущал звуки, как цвет, и цвет, как звук. И это еще одно подтверждение тому, что картина мира – есть результат вглядывания сознания в отражения кривых зеркал, а не наблюдение за реальностью. Просто в ходе эволюции наш способ восприятия действительности оказался наиболее эффективным для вида с точки зрения выживания.
С материей как таковой ситуация еще интереснее. Мы просто не задумываемся, а ведь если пройти чуточку дальше за пределы круга понятий, очерченных школьными дисциплинами, мы рискуем оказаться на пороге смысловой пропасти. И посмотреть прямо в глаза простой истины – никакой материи не существует.
Со школьной скамьи нам известно, что материальность состоит из различных молекулярных соединений, молекулы же, в свою очередь, из химических элементов – атомов. При всей кажущейся плотности даже твердых веществ расстояния между атомами огромны – если сопоставлять с размерами самих атомов, как самостоятельных физических величин. Плотность же достигается тем, что атомы связаны между собой силами притяжения и отталкивания.
Именно силы гравитации препятствуют проникновению нашей руки в стену, а не то, что это пространство плотно набито веществом. Межмолекулярное взаимодействие препятствует прохождению света сквозь нее – и мы видим цвет стены, она кажется нам реально существующей. Но если бы мы обладали способностью изменять гравитационное взаимодействие, делать атомы нашего тела невзаимодействующими с атомами стены, то могли бы проникать сквозь любые материальные преграды безо всякого для себя вреда. Одна разреженная почти-пустота проходила бы сквозь другую – и только!
Но и это не все. Если рассмотреть устройство атома, мы провалимся на очередной уровень пустоты. Атом состоит из ядра, содержащего протоны и нейтроны, и электронов, вращающихся вокруг него по свободным орбитам на громадных расстояниях (в сравнении с самими электронами, протонами и нейтронами, конечно же). Внутри себя это своего рода модели солнечных систем, только «планет» – электронов – в них может быть гораздо больше, чем планет в нашей Солнечной системе.
Из чего состоит электрон, наука не знает, а вот о нейтронах и протонах известно несколько больше. Если совсем по простому, это продукт соединения еще более мелких, так называемых «элементарных», частиц – кварков. И да – вы совершенно правы: расстояние между кварками чрезвычайно велико, а размер самих кварков… ну, вы понимаете.
На сегодня открыто уже очень много элементарных частиц – как первичных фундаментальных, типа кварка, электрона, нейтрино, так и составных, но считающихся неделимыми, типа протона и электрона. Всего их известно порядка трех с половиной сотен, включая античастицы, которые имеет каждая из частиц вещества.
Наука не знает ответа на вопрос, конечный ли это элемент материальности, тот самый субстрат, базовое вещество. Или сами они состоят из еще более мелких единиц, которые, в свою очередь, из еще более мелких. И так до бесконечности.
Если даже конечная единица вещества существует, то это нечто настолько исчезающее малое, что реальное значение имеет не само вещество, из которого частица может состоять, а формы взаимодействия таких частиц друг с другом.
Точно так же, как в макромире гравитационные поля, порождаемые звездами и их скоплениями, могут охватывать огромные расстояния, значительно превышающие размеры самих тел, их породивших. Тело, не включенное в общую систему, управляемую гравитацией, не имеющее собственной гравитационной составляющей, было бы исчезающее мало на фоне огромной Вселенной, у него практически не было бы шанса даже столкнуться с чем-либо, каких бы громадных размеров оно ни было. Таковы расстояния между физическими объектами как на уровне субатомном, так и в макрокосмосе.
В материальном мире все решают взаимодействия, а не вещество как таковое. Свойство притягиваться и отталкиваться, а не размеры предмета, молекулы, атома или элементарной частицы.
Вы можете заметить, что гравитационные свойства зависят как раз таки от состава и плотности вещества, и это так. Но если мы снова проделаем путь вниз – вернемся к природе самой малой из известных науке единиц вещества – элементарной частице, то снова столкнемся с новыми и новыми уровнями пустоты.
Впрочем, возможно, дальше погружаться в ее глубины нам не нужно, мы уже достигли дна. Многие физики убеждены, что элементарная частица – это последняя, самая мелкая ступень материальности. И природа этой частицы уже не материальна абсолютно. Это лишь магнитное и электрическое поле, закрученное в энергетический микро-вихрь, воронку. Эти воронки не отдают и не потребляют энергию, обладают несколько различными характеристиками, взаимодействуют друг с другом или нейтральны (как почти неуловимые нейтрино). И скопления этих воронок порождают самим своим существованием все более и более масштабные электрические и магнитные поля, вплоть до тех, что управляют галактиками и самой Вселенной.
Еще одна популярная, хотя и не подтвержденная экспериментально, теория – Теория струн, также говорит о том, что материи нет. А мельчайшие из известных единиц вещества – элементарные частицы – нечто вроде микрострун, полей, вибрирующих определенным образом. И все свойства отдельной элементарной частицы есть проявления особенностей этой вибрации.
О чем нам этого говорит, если по-простому? Что материи, по всей вероятности, не существует вовсе, и весь наши видимый и кажущийся таким реальным мир – это продукт взаимодействия полей, источник которых мы понять не можем. Древние индийцы называли мир Майей – Великой иллюзией, игрой сил, а не реальностью. Иллюзией Брахмана – источника всего и вся, Единого создателя этой и многих других Вселенных. Получается, они были правы?
Глава 4. Исток.
Первопричина
Если мир в конечном итоге состоит из мельчайших энергетических микро-вихрей, или даже струн, являющихся основой всей феноменальной (то есть принципиально познаваемой) Вселенной, возникает простой вопрос: кто эти вихри закрутил, кто эти струны создал?
Наука не знает ответа. Ни математика, ни квантовая физика, изучающая и худо-бедно систематизирующая законы субатомного взаимодействия, пока что не в состоянии создать сколько-нибудь стройную теорию Бытия. Признанной «Теории Всего», объединяющей разные аспекты знаний современной науки, не существует. Претендующая на этот титул Теория струн экспериментального подтверждения пока не получила. Но даже если бы и получила, она лишь математически описывает квантовые процессы, но не отвечает на главный вопрос – почему? Почему наш мир, эта бесконечная Вселенная, существует, по каким причинам она возникла?
Считается, что началом жизни Вселенной стал Большой Взрыв. В один прекрасный миг Вселенная вдруг стала существовать, стремительно расширяясь, образовывая сложные вещества из простейших. Учеными детально описаны процессы от самого момента Взрыва и до наших дней. Как вещество создавалось, как оно распределялось, как преобразовывалось, как туманности закручивались в вихри и постепенно рождались звезды, как часть из них становились новыми и сверхновыми, разбрасывая на парсеки вокруг тяжелые химические соединения, спрессовавшиеся в чудовищных условиях их недр из простейших атомов. Как в результате, в том числе, и этого «Великого засева» пространства материей образовывались планеты и, как минимум, на одной из них – нашей – возникла биологическая жизнь.
Вот только нет ответа на вопрос, кто или что дало импульс этому процессу?
Без ответа на него все теории остаются скорлупками, лишенными ядра. Поскольку способны объяснить лишь отдельные, частные аспекты существования мироздания.
А еще ученые, занимающиеся квантовой физикой, знают, что если бы параметры Большого Взрыва изменились хоть чуть-чуть, Вселенная бы сейчас не существовала. Именно изначальные, и весьма жесткие, условия Творения вещества позволили спустя миллиарды лет существовать звездам, планетам, галактикам – как стабильным структурам, развивающимся по строгим мировым законам.
Как же тогда получилось, что все это произошло совершенно случайно? И что стало ее первоосновой?
Вот уже несколько сотен лет человечество переживает безрелигиозную эру, которая когда-то воспринималась, как невероятный прорыв разума. Какую же картину взаимодействия нашей цивилизации с реальностью мы сегодня имеем?
На смену ветхозаветным представлениям о мире, где центром всего был Бог, пришел научный подход, описывающий действительность исключительно с позиций «доказуемо-недоказуемо». Таким образом, в круг признаваемого объема понятий допускается только то, что мы сумели «пощупать» или осознать. А весь остальной мир отвергается на том основании, что мы не в состоянии его воспринять, понять или хотя бы представить.