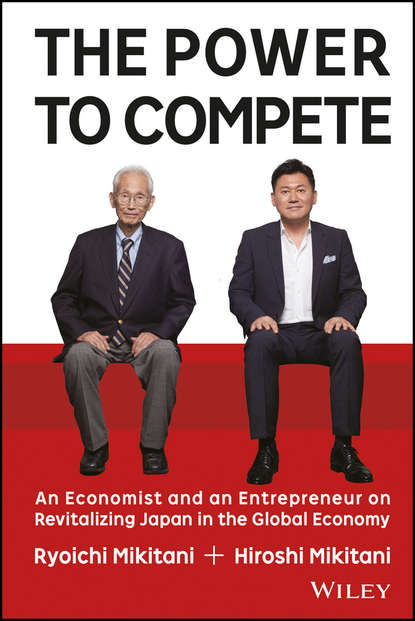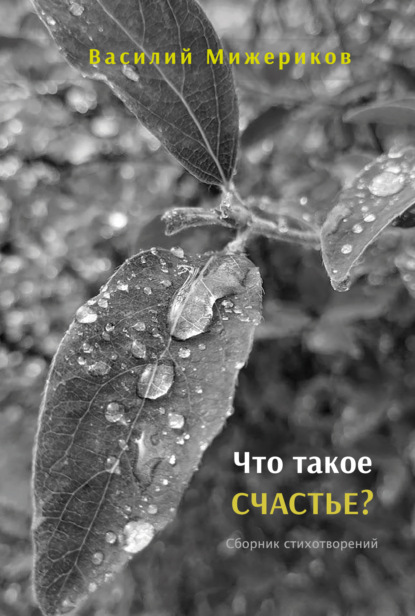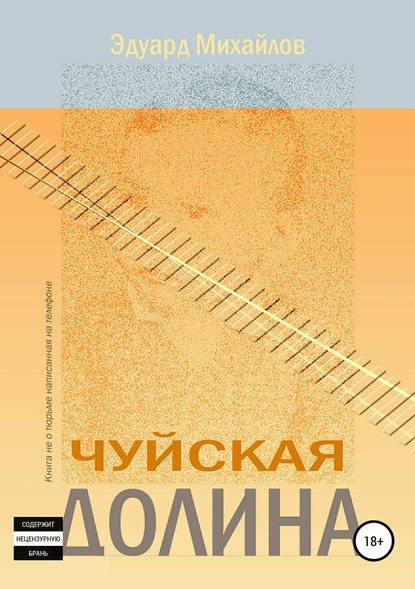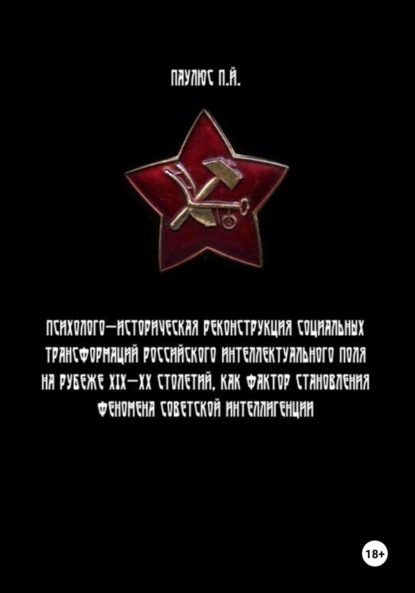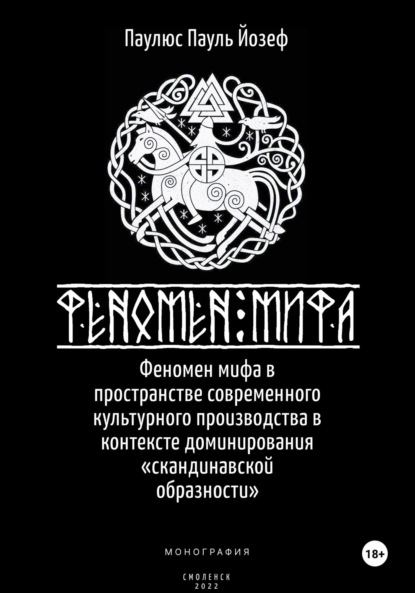Скандинавский миф и его воплощение в экранной культуре
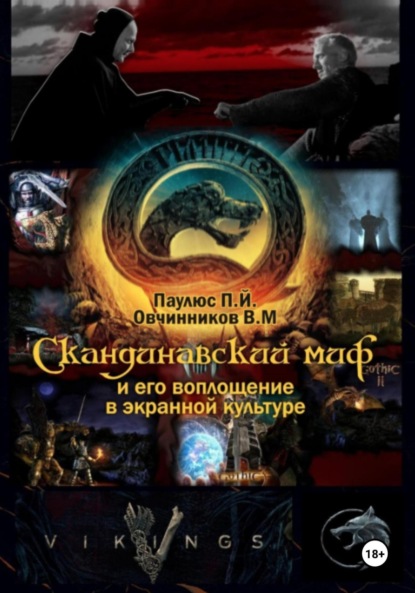
Как известно, культура – это лакмусовая бумажка, которая помогает увидеть и понять, какие изменения произошли и происходят в сознании и в жизни человека. В современную эпоху развития информационных технологий и господства рационализма не пропадает, а, наоборот, возрастает интерес к истокам культуры и феноменам архаического мышления. Одних побуждает к этому любознательность и желание получить более глубокий взгляд на окружающий мир, других привлекает «археология» культуры и связь мифологического мышления с современными реалиями жизни, а интерес третьих обусловлен своеобразным эскапизмом от действительности. А исследователи, несмотря на распространенное заблуждение в том, что потребность в мифотворчестве и эмоционально-чувственные формы понимания мира актуальны лишь для ушедших столетий, находятся в поиске постижения генезиса и сущности явлений, продолжающих жить сегодня.