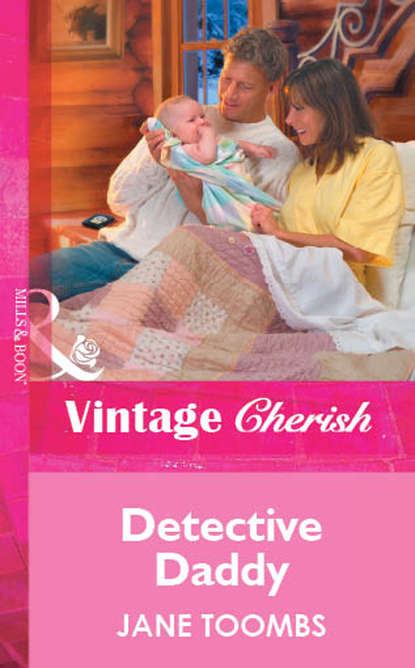Жена двух драконов

- -
- 100%
- +
Столы ломились от яств, но вся эта роскошь выглядела крикливо и неуместно, словно нищенка, нарядившаяся в краденые бриллианты. Здесь, в суровом горном Трегоре, ананасы и финики смотрелись так же естественно, как снег в пустыне. Каждое блюдо было молчаливым криком, попыткой доказать: «Мы достойны! Мы не нищие! Пощадите нас!»
На пиру Венетию посадили рядом с послом в рубиновых одеждах. Рядом с послом в золоте сидел отец. Ее место оказалось зажатым между костлявым локтем старика Джидея и спиной придворного, что сидел рядом. Ловушка. Играла веселая музыка, а блюда сменялись так быстро, что Венетия не успевала все попробовать. Но у нее и не было аппетита. Ком стоял в горле, а каждое поднесенное ко рту кушанье казалось безвкусным, как зола. Она лишь делала вид, что ест, двигая еду по тарелке, в то время как ее внутренности сжимались в один тугой, болезненный узел.
Мысленно она представляла, что творится за стенами дворца. Каждый год после пира отец обычно раздавал еду горожанам, которые весь день и ночь вынуждены были стоять под стенами дворца. Она видела их в своих мыслях – бледные, усталые лица, завернутые в потертые плащи дети, прижимающиеся к коленям матерей. Они стояли там, под холодными звездами, в то время как здесь, в зале, лилось рекой вино и жир стекал с подбородков тех, кто держал их судьбу в своих мясистых руках.
Послы же вполне успевали вкусить все, что им приносили. Даже Джидей, несмотря на свой возраст и худобу. Кажется, он поглощал мясо и пироги даже быстрее, чем его тучные товарищи. Наблюдать за этим было одновременно отвратительно и гипнотизирующе. Симей и Либей ели с шумом, чавкали, облизывали пальцы, их налитые кровью лица лоснились от жира. А Джидей… Джидей поглощал пищу с сухой, почти научной методичностью. Его костлявые пальцы двигались с поразительной скоростью, разрывая мясо, его челюсти работали безостановочно, как у насекомого-хищника. Казалось, он не получал от еды удовольствия, а просто исполнял некую процедуру, пополняя запасы своей высохшей плоти. Его черные, блестящие глаза постоянно блуждали по залу, все видя, все запоминая.
Венетия улыбалась. Так приказал ей отец. Улыбка была вырезана на ее лице ножом послушания. Щеки ее уже болели от напряжения, но ослушаться отца она не смела. Каждый мускул на ее лице горел огнем, эта гримаса радости была изнурительнее самого тяжелого труда. Это было бы неразумно: все слышали истории о том, как по одному слову оскорбленных послов Золотой Дракон уничтожал города. И потому она улыбалась. Улыбалась, глядя, как Джидей проливает красное вино на скатерть, и это пятно расползается, как кровь из раны. Улыбалась, чувствуя, как ее сердце колотится где-то в горле, готовое выпрыгнуть.
Отец вел с послом Симеем оживленную беседу. Его голос, обычно такой уверенный, теперь звучал натянуто и подобострастно. Он наклонялся к грузному послу, кивал, вставлял учтивые реплики. Он часто склонял голову и что-то втолковывал, а Симей нет-нет, да и поглядывал на Венетию. Эти взгляды были тяжелыми и оценивающими. Они скользили по ее лицу, волосам, плечам, останавливались на складках платья. Это был не взгляд мужчины на женщину, а взгляд купца на товар, который вот-вот выставят на торги.
Наконец, он наклонился к послу Либею и что-то передал ему на ухо, а Либей повернулся к Джидею и что-то передал ему. Шепоток прошел между ними, как змеиный шелест. После этого все втроем уставились на Венетию, а затем, как ни в чем не бывало, вернулись к трапезе. Этот момент коллективного, молчаливого внимания длился всего несколько секунд, но для Венетии он растянулся в вечность. Ей стало холодно, будто на нее вылили ушат ледяной воды. Она почувствовала себя дичью, на которую только что навели ружья, но по какой-то причине решили пока не стрелять.
Она опустила глаза в свою тарелку, пытаясь скрыть панику. Музыка продолжала играть, придворные продолжали притворно смеяться, но для нее мир теперь делился на «до» и «после». После этого взгляда. Она была больше не просто дочерью мэра. Она стала объектом. И от этого осознания по ее спине забегали мурашки.
Время перевалило за полночь, когда пир, наконец, начал выдыхаться. Восковые свечи оплыли причудливыми узорами, отбрасывая на стены пляшущие, уродливо вытянутые тени. Воздух стал спертым и вязким, насыщенным испарениями дешевого вина, перегара и человеческой усталости. Музыканты, чьи пальцы онемели от многочасовой игры, сбивались с ритма, и некогда бодрая мелодия теперь звучала как похоронный марш, исполняемый на расстроенных инструментах.
Отец встал. Его движение было резким, почти судорожным, выдавая то огромное напряжение, с которым он сохранял маску хозяина весь вечер. Он поднял руки, и трижды громко хлопнул в ладоши. Звук хлопков был сухим и громким, как выстрел. Он разрезал уставшую атмосферу зала, заставив всех вздрогнуть.
Музыка стихла. Резко, на полуслове. Воцарилась звенящая тишина, в которой было слышно лишь тяжелое дыхание наевшихся послов и треск догорающих поленьев в камине.
– Достопочтенные послы желают осмотреть дворец и увидеть собранные дары для повелителя, – объявил отец. Его голос прозвучал неестественно громко в этой тишине, и в нем не было ни капли прежней подобострастной теплоты. Теперь это был голос человека, исполняющего последний, самый тягостный ритуал.
Музыка сменилась на спокойную, придворные встали и поклонились. Движения их были механическими, отрепетированными. Они замерли в низких поклонах, уткнувшись взглядами в узоры на каменном полу. Они не поднимали голов, пока обожравшиеся послы не смогли выбраться из своих стульев, опираясь на высокие подлокотники. Это зрелище было одновременно унизительным и комичным: тучные, заплывшие жиром тела, с трудом извлекаемые из глубоких кресел, их красные лица, искаженные гримасой напряжения. Они кряхтели, отдувались, и все это – под почтительную тишину и склоненные головы всего двора.
Когда они покинули зал, все будто выдохнули. Напряженная струна, натянутая до предела, наконец-то ослабла. В зале пронесся негромкий, но единодушный вздох облегчения. Плечи придворных распрямились, маски учтивости на мгновение упали, обнажив усталость и страх. Начались тихие разговоры, послышался смех, мужчины закружили женщин в простом танце. Это была не радость, а нервная разрядка, короткая передышка между двумя актами пьесы, второй из которых был окутан мрачной тайной.
Венетия хотела было незаметно выскользнуть в сад. Ей нужно было побыть одной, вдохнуть холодного ночного воздуха, смыть с себя это липкое ощущение чужих взглядов и притворной веселости. Она уже сделала шаг к арочному проему, ведущему в темноту, где благоухали ночные цветы, но тут ее руку перехватила служанка.
Прикосновение было резким и бесцеремонным. Пальцы служанки, обычно ловкие и нежные, сейчас впились в ее запястье как стальные клещи.
– Идемте со мной, моя госпожа, – прошептала она. Ее шепот был громким и шипящим, полным не терпящей возражений срочности.
Венетия, оглушенная внезапностью, на миг опешила. Затем по ее лицу разлилась горячая волна возмущения.
– Отпусти меня! – возмутилась Венетия. – Как ты смеешь меня касаться?! Ее голос прозвучал резко, нарушая робкую атмосферу, царившую в зале. Несколько придворных обернулись, но их взгляды были пусты и безразличны.
Служанка испуганно огляделась, проверяя, не привлекают ли они слишком много внимания. Но придворные уже так утомились, что не смотрели на них. Ее страх был иным – не страхом наказания за дерзость, а страхом не выполнить приказ. Ее глаза, широко раскрытые, метались по сторонам.
– Ваш отец приказал, – прошептала служанка, потянув Венетию за руку. – Тише. Идемте со мной в главные приемные комнаты. В ее голосе не было ни капли сочувствия, лишь холодное, рабское повиновение. Она не вела, а тащила, и ее пальцы все еще сжимали руку Венетии, словно кандалы.
Венетия почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Что бы это могло значить? Зачем отец мог хотеть видеть ее, ведь он был занят послами? Мысли путались, в голове возникали и тут же отвергались самые невероятные догадки. Может, он хочет извиниться за прошедшие недели? Или показать ей какой-то особый дар? Но зачем тогда такая спешка и этот испуганный шепот служанки? Холодок на спине превратился в ледяную струйку пота, медленно стекающую по позвоночнику.
Поверив словам служанки, она отправилась в приемный зал. Ее ноги стали ватными, каждый шаг давался с трудом. Они шли по пустынным, погруженным в полумрак коридорам. Только их шаги отдавались гулким эхом от каменных стен, и этот звук казался отсчетом времени, оставшегося до неведомой развязки. Факелы в железных держателях трещали, отбрасывая на стены их искаженные, пляшущие тени – две тонкие фигуры, одна из которых почти тащила за собой другую.
Служанка немного опередила ее и приоткрыла для госпожи тяжелую дубовую дверь. Скрип железных петель прозвучал оглушительно громко в тишине. Из щели пахнуло холодом и запахом старого дерева.
Венетия вошла в зал. Пространство перед ней поглотило ее, огромное и пугающее. Шаги отдавались от стен гулким эхом. Она сделала несколько шагов вперед, и ее охватило чувство полнейшей потерянности. Это был не тот зал, где проходили пиры. Это было официальное, строгое помещение, где ее отец вершил суд и принимал важных гостей. Место власти и решений.
И в самом центре этого пространства, в луче света луны от единственного высокого окна, падавшего на каменные плиты, стоял отец и послы. Они не разглядывали дары, не беседовали. Они просто стояли. Молча. Четверо мужчин, выстроившихся в линию, как судьи.
Когда Венетия вошла, все четверо повернули головы к ней. Механически, почти одновременно. Четыре пары глаз уставились на нее. Девушке показалось, что отец бледен. Не просто устал, а смертельно бледен. Его лицо было белым, как мел, и в его глазах, обычно таких ясных и твердых, читалось что-то неуловимое и страшное – смесь муки, стыда и безжалостной решимости.
Воцарилась тишина, еще более гнетущая, чем та, что была в пиршественном зале. Она длилась вечность, и Венетия чувствовала, как под этим взглядом ее воля тает, как воск от свечи.
И тогда он заговорил. Его голос прозвучал тихо, но абсолютно четко, нарушая мертвую тишину зала.
– Венетия, – сказал он очень ласково, что немного ее приободрило. В этой ласковости была какая-то неестественная, хрупкая нежность, от которой стало еще страшнее. Она была похожа на тонкую пленку льда, натянутую над бездной. – Достопочтенные господа хотят посмотреть на тебя.
Фраза повисла в воздухе. «Посмотреть на тебя». Она была такой простой, такой безобидной на поверхности, и такой чудовищной в своем контексте. Венетия почувствовала, как почва уходит из-под ног. Ее взгляд скользнул по лицам послов. Симей смотрел с холодным любопытством, Либей – с ленивым интересом, а старик Джидей – с пронзительной, изучающей интенсивностью.
Венетия обвела их взглядом и изящно поклонилась. Это был автоматический жест, вбитый годами тренировок. Ее тело действовало само, пока разум отчаянно пытался понять, что происходит. Послы продолжали молча смотреть, и она не была уверена, что ей делать. Улыбаться? Говорить? Она чувствовала себя актрисой на сцене, которая забыла не только свою роль, но и название пьесы.
Она сделала глубокий вдох, пытаясь вернуть себе хоть каплю самообладания. Ее голос, когда она заговорила, прозвучал тихо и неуверенно:
– Мы рады приветствовать достоп…
Но отец прервал ее. Резко. Бескомпромиссно. Его ласковый тон испарился, словно его и не было.
Слова, которые он произнес, прозвучали негромко, но для Венетии они прогремели, как удар грома, разрывая в клочья ее прежнюю жизнь.
– Сними свою одежду, Венетия.
Слова отца повисли в ледяном воздухе зала, словно острые осколки стекла, которые вот-вот обрушатся вниз. Кажется, даже пылинки в столбе лунного света замерли в немом ужасе.
Девушке показалось, что ее ноги стали ватными. Это было не просто ощущение – это была физическая реальность. Мускулы бедер внезапно ослабели, колени подкосились, и она едва удержалась на месте, судорожно напрягая икры. Пол под ногами, холодный и твердый, внезапно приобрел зыбкость болотной трясины, готовой поглотить ее. Зачем бы это понадобилось?! Этот вопрос пронесся в сознании ослепительной вспышкой, не находя ответа, лишь умножая панику. Ее разум, пытаясь защититься, лихорадочно цеплялся за самые нелепые объяснения: может, это какой-то старый, забытый всеми обряд? Может, на платье пролили яд, и его нужно немедленно снять? Но холодная, пронзительная уверенность в голосе отца разбивала эти хрупкие построения в прах.
Она смотрела на отца, вытаращив глаза и приоткрыв рот, будто надеясь, что он отменит жестокий приказ. Ее взгляд был немой мольбой, полной детского недоумения и надвигающегося ужаса. Она вглядывалась в его знакомые черты, пытаясь найти там того человека, который качал ее на коленях, учил распознавать травы в горах и чьи руки были для нее олицетворением безопасности. Но лицо, встретившее ее взгляд, было маской. Бледной, высеченной из мрамора скорби и непоколебимой решимости. Его губы были плотно сжаты, а в уголках глаз залегли тени, которых она раньше не видела. В его позе не было ни злобы, ни сладострастия – лишь каменная, нечеловеческая отрешенность палача, знающего, что его приговор справедлив и неизбежен.
Но он молчал. Его молчание было страшнее любого крика. Оно было стеной, о которую разбивались все ее надежды. Оно было приговором, не требующим оглашения. В этой тишине она услышала свое собственное сердце – оно колотилось где-то в горле, бешеным, неровным стуком, грозя разорвать ее изнутри. Воздух в зале стал густым, как смола, и ей не хватало дыхания. Она ловила ртом этот отравленный воздух, и каждый вдох обжигал легкие.
Проглотив подступивший к горлу комок, горький и огромный, она ощутила, как по телу разливается странное, леденящее оцепенение. Это было не спокойствие, а паралич воли, капитуляция разума перед непостижимым ужасом. Ее сознание, еще секунду назад метавшееся в поисках спасения, вдруг отступило, уступив место пустоте. Она увидела себя со стороны – маленькую, беззащитную фигурку в центре огромного, враждебного пространства, окруженную четырьмя молчаливыми истуканами. И поняла, что выхода нет. Бегство? Сопротивление? Это означало бы смерть. Не только для нее, но и для отца, для всех этих людей, чьи жизни висели на волоске воли этих тучных, равнодушных людей в парче.
Она решила повиноваться. Решение это пришло не как акт воли, а как обрушение, как падение в пропасть. Ели это пожелание послов, отец ничего не мог сделать. Эта мысль стала ее последним оправданием, последним щитом. Она цеплялась за нее, как утопающий за соломинку. Да, отец не виноват. Он так же беспомощен. Он лишь инструмент в руках настоящих хозяев их жизни. Ни один мужчина раньше не видел ее голой. Эта мысль пронзила ее острой, стыдливой болью. Ее девственность, ее неприкосновенность, все, что составляло ее женскую суть, должно было быть принесено в жертву на этом холодном алтаре. Оставалось только надеяться, что послы действительно хотят только взглянуть, и ничего после этого не произойдет. Эта наивная, детская надежда была единственным, что не давало ей сойти с ула. Только посмотреть. Только посмотреть и все. Она повторяла это про себя, как заклинание, заставляя свои онемевшие пальцы двигаться.
Она подняла руки. Пальцы ее, холодные и нечуткие, как у покойницы, нашли шелковые шнурки на плечах платья. Завязки, которые утром она затягивала с легким сердцем, предвкушая день, теперь казались хитрыми, злобными узлами, не желающими поддаваться. Дрожащими руками Венетия распустила завязки на плечах. Шелк с шелестом соскользнул с ее кожи, и струйка холодного воздуха коснулась обнажившихся ключиц, заставив ее вздрогнуть. Платье, лишившись верхней поддержки, стало невыносимо тяжелым, его вес вдавливал ее в пол.
Но спина. Со спины платье было зашнуровано. Ей пришлось позвать служанку, которая, конечно, подглядывала у двери, чтобы распустить шнурок на спине. Ее собственный голос прозвучал чужим, хриплым и разбитым. Он едва вырвался из сжатого горла. Дверь приоткрылась, и в щели мелькнуло испуганное лицо служанки. Та проскользнула внутрь, не поднимая глаз, ее пальцы, привыкшие к шнуровкам, лихорадочно заработали на спине Венетии. Каждое прикосновение было ударом, напоминанием о том, что ее стыд видят не только эти четверо, но и другие. Что ее унижение становится публичным достоянием. Служанка справилась со шнуровкой, откланялась и удалилась, исчезнув так же быстро и бесшумно, как и появилась, оставив Венетию наедине с ее судьями.
И вот она продолжала стоять перед четырьмя мужчинами, прижимая лиф платья к груди и не решаясь опустить руки. Тяжелая ткань была ее последним укрытием, жалким барьером между ней и миром. Она впилась в нее пальцами, суставы побелели от напряжения. Ее грудь, маленькая и упругая, поднималась и опускалась в такт частому, прерывистому дыханию. Она чувствовала, как взгляды послов, тяжелые и липкие, как смола, ползут по ее рукам, шее, плечам, ощупывают каждую складку ткани, за которой она пыталась спрятаться.
И тогда прозвучал звук, который переломил ее последнее сопротивление. Посол Симей раздраженно цокнул языком и посмотрел на отца. Этот короткий, сухой щелчок был полон такого презрительного нетерпения, такой уверенной власти, что Венетия поняла – любая задержка, любое проявление собственной воли лишь усугубят ее положение и, возможно, навлекут гнев на отца. Она поняла, что вызывает гнев, и повиновалась.
Ее руки, все еще дрожа, разжались. Пальцы ослабли, и последняя защита упала. Венетия опустила руки, и тяжелый наряд волнами лег у ее ног. Шелк и бархат с глухим стуком коснулись каменного пола, образовав у ее босых ног бесформенную, цветастую груду. Она стояла абсолютно голая, застывшая, как статуя, в столбе лунного света. Холодный воздух зала обжег ее кожу, покрывая ее мурашками.
Мир сузился до размеров ее обнаженного тела и четырех пар глаз, впившихся в нее с таким холодным любопытством, будто она была не живым существом, а диковинным экспонатом в кунсткамере. Воздух, казалось, загустел до состояния желе, и каждый вздох давался с трудом, словно легкие наполнялись не кислородом, а свинцовой пылью. Она чувствовала биение собственного сердца в самых неожиданных местах – в висках, в кончиках пальцев, в горле. Оно колотилось, маленькое и перепуганное, пытаясь вырваться из клетки грудной клетки.
Рыжие волосы удачно упали вперед, прикрывая небольшие груди, и на мгновение это подарило ей призрачное ощущение укрытия. Эти медные пряди были единственным, что осталось от нее прежней, единственной тканью, отделявшей ее душу от этого кошмара. Она инстинктивно сгорбилась, пытаясь стать меньше, незаметнее, втянуть живот, спрятать лоно, исчезнуть. Но это было бесполезно. Стоило ей опустить ресницы, как она снова почувствовала на себе тяжелые, оценивающие взгляды.
Взгляд Симея был похож на взгляд мясника, оценивающего тушу. Он скользил по ее формам без тени волнения, лишь с практичной, деловой заинтересованностью. Он отмечал ширину бедер, изгиб талии, крепость плеч – все те параметры, что говорили о здоровье и, следовательно, о способности выносить наследника.
Либей смотрел иначе. В его заплывших глазах теплился тусклый, ленивый огонек сладострастия. Он не скрывал удовольствия от зрелища. Его взгляд ползал по ее коже, как жирная муха, задерживаясь на округлостях, и Венетия чувствовала, как ее тошнит от этого пристального, влажного внимания.
А Джидей… Взгляд старика был самым страшным. Хищным и острым, как скальпель. Он изучал ее не как женщину или самку, а как явление. Его черные, блестящие глаза, казалось, видели не только ее тело, но и то, что скрыто под кожей – мускулы, кости, ток крови. Он видел ее страх, ее стыд, и это, похоже, доставляло ему глубинное, интеллектуальное наслаждение.
Но Венетия, понимая, чего от нее хотят, отбросила волосы назад. Это движение потребовало от нее нечеловеческих усилий. Каждый мускул в ее теле вопил, сопротивляясь, умоляя сохранить этот жалкий покров. Но ее воля, закаленная в горниле страха и отчаяния, оказалась сильнее. Она резко встряхнула головой, и медно-рыжие волосы, словно жидкое пламя, отпрянули, обнажив плечи, ключицы и грудь. Холодный воздух вновь обжег обнажившуюся кожу. Теперь ей нечего было скрывать. Она стояла перед ними во всей своей унизительной наготе, и это было одновременно и поражением, и актом отчаянной храбрости.
Послы внимательно изучали ее. Молчание в зале было оглушительным. Слышно было лишь тяжелое, сопящее дыхание Либея и сухой, порывистый кашель Джидея. Никто не двигался. Они просто смотрели, впитывая каждую деталь, и в этом молчаливом поглощении был заключен весь ужас ее положения. Она была вещью. Выставленной на обозрение. Лишенной воли, права голоса, даже права на стыд.
Джидей повел головой вверх, его высохший палец с длинным желтым ногтем сделал короткий, повелительный жест. Приказ был понятен без слов. И Венетия повернулась к ним спиной, показывая себя со всех сторон. Ее движения были механическими, как у заведенной куклы. Она поворачивалась медленно, ощущая, как взгляды впиваются в ее лопатки, в изгиб позвоночника, в ягодицы, в заднюю сторону коленей. Каждый дюйм ее кожи горел под этим безжалостным осмотром. Она чувствовала себя животным на ярмарке, которого крутят, чтобы покупатель мог оценить товар со всех сторон.
И именно в этот момент, когда она завершала свой медленный, позорный оборот, глядя в противоположную стену, стараясь не видеть их лиц, с ней случилось то, чего она так отчаянно пыталась избежать. По ее щеке, горячей и онемевшей, скатилась тяжелая капля. Она была соленой и жгучей. Она почувствовала, как из ее глаза выпала большая горячая слеза и упала на ее грудь. Капля, словно расплавленный свинец, согрела кожу чуть ниже ключицы и медленно покатилась вниз, оставлявая за собой мокрый, холодный след. Это была первая слеза. Предательская, выдавшая все ее отчаяние, всю ее уничтоженную гордость. Она сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони, пытаясь физической болью заглушить боль душевную, остановить другие слезы, которые уже подступали комом к горлу. Не сейчас. Только не сейчас. Не перед ними.
Она закончила поворот, снова оказавшись к ним лицом. Слеза высыхала на ее коже, но ощущение ее жгучего прикосновения оставалось. Она стояла, опустив глаза, не в силах больше встречаться с их взглядами. Ее осмотр, казалось, был закончен. Прошла вечность. Или несколько секунд. Временные рамки расплылись и потеряли смысл.
Тут она услышала звук опирающейся двери. Тот самый скрип тяжелых дубовых створок на железных петлях, который несколько минут назад казался ей предвестником неведомой беды. Теперь он прозвучал как похоронный звон по ее девичьей чести, по ее прежней жизни. Скрип разрезал гнетущую тишину зала, и в этот миг что-то щелкнуло, какой-то невидимый замок захлопнулся. Ритуал был завершен.
Она стояла, все еще голая, все еще застывшая в позе выставочного экспоната, когда движение на периферии зрения заставило ее повернуть голову. Отец, не глядя на нее, не сказав ни слова, уже отворачивался. Его плечи были ссутулены, спина сгорблена, будто на нее взвалили невидимый, неподъемный груз. Он сделал первый шаг, потом второй, его фигура растворялась в темном проеме двери. Он уходил. Безмолвно. Без единого слова утешения или объяснения.
За ним, не спеша, с тем же величием, с каким и вошли, потянулись послы. Симей бросил на нее последний, беглый, деловой взгляд, словно ставя в уме галочку о выполнении процедуры. Либей, проходя, сдержанно крякнул, удовлетворенно вытирая тыльной стороной ладони свои жирные губы. А старик Джидей задержался на мгновение дольше других. Его острый, птичий взгляд скользнул по ней с ног до головы, и в уголках его безгубого рта дрогнула тень чего-то, что можно было принять за подобие улыбки. Холодной, научной, лишенной всякого человеческого тепла. Затем он развернулся, и его алое одеяние мелькнуло в дверном проеме, как капля крови на камне.
Обернувшись, Венетия поняла, что осталась в приемном зале одна.
Дверь с мягким стуком закрылась. Щелчок замка прозвучал оглушительно громко в полной тишине, словно захлопнулась крышка ее гроба. Эхо от этого щелчка долго раскатывалось под высокими сводчатыми потолками, постепенно затихая, пока не растворилось в ничто.
И тогда наступила тишина. Абсолютная, всепоглощающая. Такая, какой не бывает в природе. Ее окружало безмолвие, более громкое, чем любой грохот. В нем не было ни звука шагов, ни голосов, ни даже ее собственного дыхания – она замерла, боясь пошевелиться, боясь нарушить эту ледяную, мертвую пустоту.
Она стояла в центре огромного, холодного зала, и ее одиночество было таким вселенским, таким бездонным, что его физически можно было ощутить кожей. Она осталась в приемном зале одна. Эти слова отдавались в ее сознании, как удары колокола. Одна. Совершенно одна. Брошенная отцом. Осмотренная и отвергнутая чужаками. Оставленная на растерзание собственному стыду.