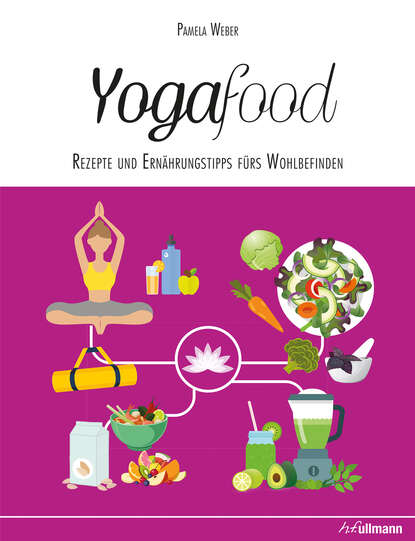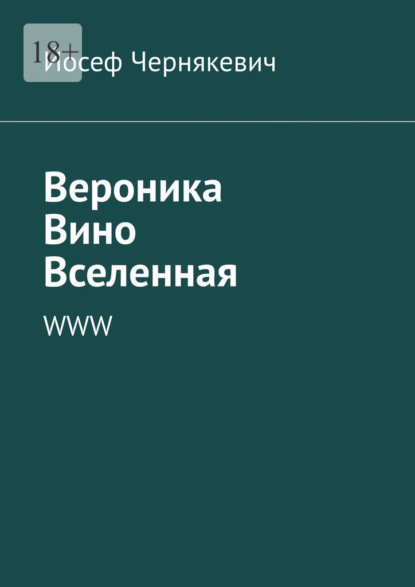Протокол: творение
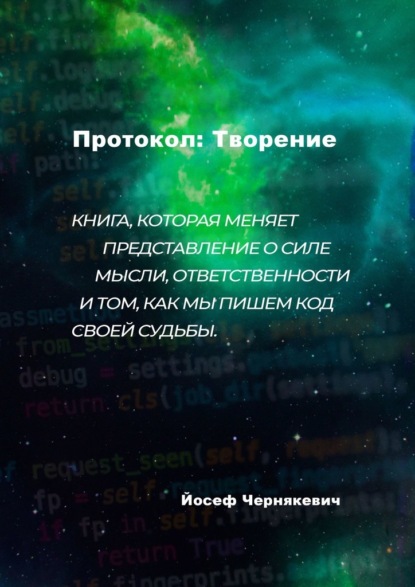
Он чинил чужие реальности. Теперь пришло время починить свою.
Адам — мастер по исправлению цифровых миров. Но когда реальность начала рассыпаться, он понял: это не баг. Это начало.
Его ждёт путешествие через лабиринты сознания, битвы с тенями прошлого и встреча с архитектурой мироздания. Чтобы спасти всё, ему придётся сделать выбор — стать пешкой в чужой игре или создать новые правила.
Книга, которая меняет представление о силе мысли, ответственности и том, как мы пишем код своей судьбы.