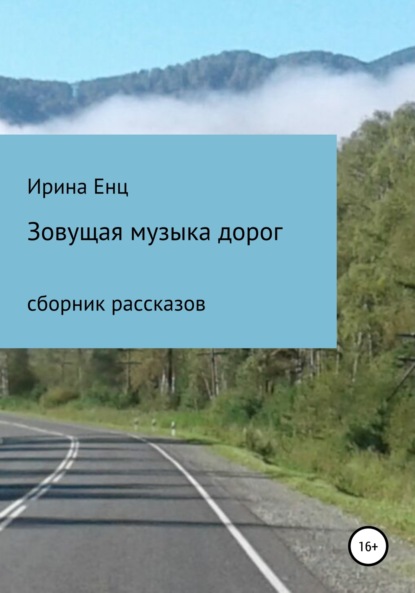Куда улетают журавли…
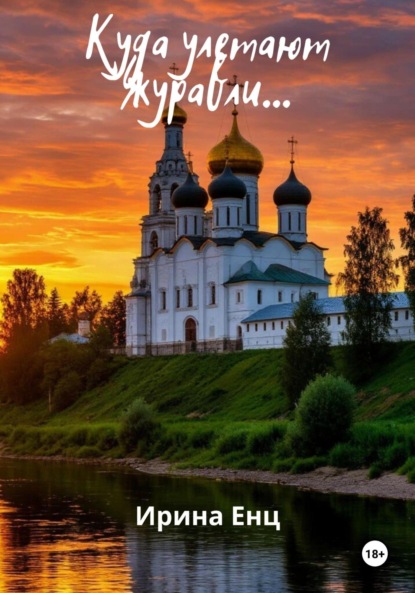
Две девицы под окном… Вот так просто начиналась история двух сестер, Августы и Евдокии. В Пасхальную ночь, собрались они за огнем в церковь. И мало кому пришло бы в голову, что обернется это благое дело опасными приключениями. Местный олигарх, гоняющийся за тайной древнего Журавлиного братства. Подземные хранилища и тайные проходы в древнем монастыре, наемный убийца и секретные организации Темных. Загадки древности и опасные силы, с которыми сестрам предстоит вступить в схватку. И вечные поиски ответа на вопрос «кто я?».