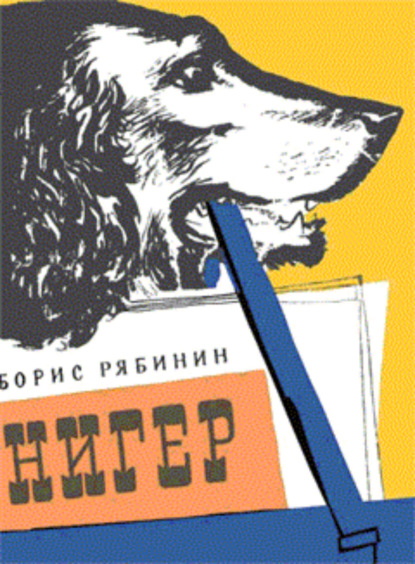- -
- 100%
- +

Пролог
В полночь я стою в центре своей бывшей светлицы. Вокруг трепещут огни – десятки восковых свечей, вставленных в массивные медные подсвечники, отбрасывают на стены пляшущие тени. Их свет дрожит, будто тоже боится того, что грядёт. Воздух густ от запаха горящего воска, хвои и чего-то горьковатого – может, полыни, может, страха.
Женские голоса сливаются в единый стон. Плакальщицы, сгорбленные, с распущенными волосами, сидят вдоль стен, причитая нараспев. Их песни – не просто обряд, это настоящая скорбь. Они знают, что утром меня не станет.
Я стою посреди комнаты, босая, в тонкой рубахе, и чувствую, как дрожь бежит по спине. Но не от холода – от чего-то другого. От осознания. От безысходности. От странного, глупого, неистребимого ожидания спасения.
– Ох, голубка моя… – Нянюшка всхлипывает, поправляя мои волосы. Её пальцы, шершавые от многих лет работы, дрожат. – Да как же так-то? Да как же?
Пол устлан еловыми ветвями – их острые иглы впиваются в босые ступни, но я даже не вздрагиваю. Между ними – дорожка из калины. Ягоды, яркие, как кровь, рассыпаны под ногами, и кажется, будто уже иду по кровавому следу.
Женщины суетятся вокруг. Мамки, няньки, свахи – все они знают своё дело. Одни обтирают моё тело холщовой тряпицей, смоченной в ледяной воде с хвойным отваром. Вода стекает по коже, оставляя мурашки. Хоть бы тёплую дали… Но нет, теплая вода для живых, а я уже одной ногой за чертой.
Потом – льняная рубаха. Белая, как смерть, с алыми узорами по подолу, рукавам, горловине. Я сама вышивала их, мечтая о свадьбе. Сидела у окна, щурясь от солнца, и представляла жениха – сильного, доброго, который удивится, какая его невеста рукодельница.
Но сегодня – не свадьба.
Девушка с заплаканными глазами пытается заплести мне косу.
– Пусть будет так, как есть, – говорю я тихо.
Мои волосы остаются распущенными. На них повязывают вышитую ленту с височными кольцами, а сверху – венок из калины. Ягоды холодные, будто уже мёртвые.
Всё это – и рубаха, и венок, и обряды – должно быть свадебным убранством. Но сегодня оно смешивается с погребальным.
Потому что меня отдадут змею.
Легенда гласит, что в топях, за лесом, живёт древний ящер. Нянюшка пугала им меня в детстве: «Не ходи в лес одна, а то змей утащит!»
Но я не боялась.
Наоборот – тайком бегала к болотам, высматривая чудище. Мне было жаль и девушек, которых когда-то приносили в жертву, и самого змея. Может, он просто одинокий? Может, его никто не любил?
Ни разу не встретила его.
А теперь он вернулся.
Месяц назад первые свидетели увидели его – огромную тень в тумане, горящие глаза среди камышей. И старейшины вспомнили древний обычай.
И выбрали меня.
– Ох, говорила тебе, дурная затея! – Нянюшка рыдает, обнимая меня. – Не надо было тебе тогда уходить!
Я крепко прижимаю её, вдыхая знакомый запах – мяты, липы и чего-то родного, что всегда было домом.
– Не рви сердце, нянюшка. Такая судьба моя…
Целую её в морщинистый лоб и отпускаю.
За дверьми уже ждёт повозка.
Сегодня меня принесут в жертву, отдав на откуп змею, которого снова стали замечать в топях месяц назад.
Глава 1
Солнечные лучи, тонкие и жгучие, как раскаленные иглы, пробиваются сквозь слюдяное окошко, рассыпаясь бликами по разложенным на столе лентам. Они переливаются – синие, золотые, алые – но в их блеске нет радости. Среди шелковых переплетений бьется муха, жужжание ее назойливое, отчаянное, словно последний крик перед смертью.
– Совсем скоро купальская ночь, – шепчет девушка и хлопает ладонью по столу.
Хруст мушиных лапок, заставляет поморщиться.
Я смотрю на испачканную синюю ленту, и в горле поднимается тошнотворный ком. Выбросить. Надо сказать, чтобы выбросили. Но слова застревают где-то в груди.
– Да, – хихикает вторая, ловко вплетая в мою косу золотистую ленту, – уверена, в этом году Летень на меня взглянет.
Глаза ее блестят, щеки розовеют от волнения. Она так легко говорит о любви, о празднике, о будущем…
Я сжимаю пальцы в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони.
– Ты прошлым летом тоже о Ждане говорила, – усмехается Ожана, поправляя складки моего платья.
– Ой, – вздыхает, и ее лицо на миг становится старше, – кто знал, что он такой…
Я резко встаю, вырывая косу из ее рук. Они такие… живые. Свободные. Пусть безродные, зато могут мечтать, любить, дышать полной грудью.
Отворачиваюсь к окну, чтобы не выдать тоску, что разливается по мне, как чернила по пергаменту.
– Да все знали, – смеется Белава, но вдруг голос ее становится тише, – только боязно идти на праздник…
– Отчего же? – поворачиваюсь к ней, чувствуя, как сердце замирает.
– Давеча на дворе девки сказывали… – Белава переходит на шепот, озираясь, будто стены имеют уши, – что змей опять объявился. Тот самый.
Я закатываю глаза.
– Сказки.
– Да нет, княжна! – горячо вступает Ожана. – Годиславова жена, что из леса, вернулась сама не своя. Говорит, видела чудище хвостатое, глаза – как угли…
– Так змей же в туманных топях живет, – пожимаю плечами, но в груди что-то сжимается.
– А что ему мешает в лесу охотиться? – удивляется девушка. – Тем более девицы в лес ходят чаще, чем в топи.
– А на прошлой седмице у Деяна двух коз задрали, – добавляет Белава.
– Зачем змею козы? – стискиваю виски пальцами.
– А я почем знаю? – разводит руками Ожана. – Говорят, он невинными девушками питается.
– Ну тогда тебе, Ожана, бояться нечего, – усмехается Белава.
– Вот потому и на коз перешел, – бросаю я, пожимая плечами. – Туго нынче с девицами стало.
– Так козы дойные были! – хором возмущаются девушки.
Дверь резко распахивается.
– Ишь, разболтались! – вваливается нянюшка, сверкая глазами. – Коз волк задрал, нечего сказки рассказывать! А ну, брысь отсюда, бесстыдницы!
Она размахивается платком, будто отгоняет кур, и девицы, хихикая, высыпают вон.
– Здравствуй, нянюшка, – приветствую её я, стараясь, чтобы улыбка не дрогнула.
Голос звучит тише, чем хотелось бы, но она всё равно слышит.
– И тебя, здравствуй, голубка моя, – её тёплые руки мягко ложатся мне на плечи, а знакомый запах печёного хлеба и сушёных трав обволакивает, как детское одеяло. – Отчего закручинилась?
Она всегда замечает. Даже если я молчу, даже если прячу глаза – её взгляд, вытертый годами, как старый камень у колодца, сразу видит то, что скрыто.
– Тоска, нянюшка, – опускаю ладонь на её натруженную, узловатую руку. Кожа шершавая, но тепло от неё струится живое, настоящее. – Сил нет уже. Отчего я княжной родилась? Из-за чего крест этот тяжкий нести?
– Да что ты такое молвишь, голубка? – качает головой нянюшка, и седые пряди выбиваются из-под платка. – Нешто жизнь плохая? Чай не рабыня, днями напролёт спину гнуть. Ешь досыта, в тепле, в свете…
– Разве в этом счастье? – произношу я, и голос дрожит, будто тонкий лёд на луже ранней весной.
Нянюшка замолкает, её морщинистое лицо становится серьёзным.
– Счастье, оно разное, девонька. У каждого своё.
– Девицы на праздник едут, на парней заглядываются, – вырывается у меня, и в груди колет, будто кто-то сжал сердце в кулаке. – А я? В светлице дни и ночи, будто птица в золочёной клетке. Чтобы по двору пройти – полдня уговоров, да чтоб никто не увидел, не осудил. А дальше что? Десяток сватов развернули, а как девичий век пройдёт – прямиком в монастырь сошлют, как тётку мою…
– Не рви сердце, голубка моя, – бормочет нянюшка, гладя меня по спине, как в детстве, когда я пугалась грозы. – Сыщет батюшка тебе жениха.
– Как прошлый раз? Царевича заморского?
В животе холодеет, будто глотнула ледяной воды. Вспоминаются шёпоты за спиной, испуганные взгляды, шепотки в сенях: «Проклятая… после неё только смерть…»
– Так отчего нет?
– Вдруг опять что случится? – сжимаю кулаки, чтобы не дрожали. – Мне позора хватило, когда он после встречи со мной богам душу отдал. Люди ещё годами шушукались, что княжна – бесовское отродье. Даже служанки крестились, когда я проходила.
– Так он же от хвори своей заморской и помер! Всем известно! – отмахивается.
– Ну да… всем… – горько усмехаюсь.
– Не печалься, девонька…
– Сил нет, нянюшка, – перебиваю её, и слёзы, наконец, подступают к глазам. – Хоть бы одним глазком взглянуть на праздник… Вдохнуть этот воздух – вольный, пьянящий, где нет стен, нет запретов…
– Нешто удумала?! – нянюшка в ужасе прикрывает рот краем платка, и её глаза расширяются, будто увидела не меня, а призрак.
– Помоги, нянюшка. Умоляю. Всего один раз. – Голос мой дрожит, но я сжимаю её руки так крепко, что костяшки белеют. – А после… клянусь, буду ждать монастыря смиренно. Безропотно. Как мёртвая.
– Да ты что, милая! – она всплёскивает руками.
– Няня! – Шепчу словно в горячечном бреду. Притягиваю её ближе, и запах ладана с её одежды смешивается со страхом. – Хочу хоть раз почувствовать, каково это – быть свободной! Прыгать через костёр, смеяться, не оглядываясь на стражу. Держаться за руки с тем, кто… – Голос срывается. – Кто смотрит на меня, а не на княжну в золотых цепях.
– Тебя поймают! – её шёпот жёсткий, как удар плети. – Не успеешь и шагу ступить! Меня убьют, а тебя…
Она обрывает, но я вижу в её взгляде ту самую плётку, что висит в караульне.
– Не убьют. – Качаю головой, и косы тяжёлым грузом покачиваются за спиной. – Скажешь, что я сбежала, опоив тебя сонным зельем. – Глотаю ком в горле. – А меня… В ушах уже звенит от воображаемого свиста кожи. – Всё равно. Какая разница – сидеть в скиту сегодня или через год?
– Уверена я – батюшка жениха отыщет! – Нянюшка вытирает слёзы концом платка. – Не хорони себя раньше времени, голубка…
– Меня уже похоронили в этом тереме! – В голосе прорывается нервный смешок, резкий, как щелчок затвора. – Разве это жизнь? День за днём глядеть в одно окошко, считать ворон да ждать, пока отец вспомнит, что у него дочь есть?
– Все жизнь – пока не смерть, – крестится няня, и её пальцы дрожат. – Не гневи господа, девонька…
– Я всё решила. – Бью кулаком по столу, и дерево глухо стонет. Так бил отец, когда объявлял свое решение. – Переоденусь служанкой и сбегу. А ты… – Прикусываю губу. – Останешься здесь. Коли к рассвету не вернусь – поднимай шум. Но до того – молчи!
– А ежели схватят? – нянюшка хватается за грудь, будто сердце вот-вот выпрыгнет. – Ежели…
– Не хватятся. – Отрезаю твёрже, чем есть на самом деле. В животе – холодная тяжесть.
– Голубка моя…
– Помоги, нянюшка. – Делаю шаг вперёд, и пол под ногами будто колеблется. – Или взаправду опою тебя зельем… и сделаю по-своему.
В светлице повисает гнетущая тишина.
И вдруг – её вздох, долгий, будто выдох всей прожитой жизни. Глаза смотрят сквозь меня, в какой-то далёкий год, когда она держала на руках не княжну, а просто девочку.
– Хочешь узнать другую жизнь… – шепчет она, и в голосе – странная смесь укора и гордости. – Характером – вся в батюшку. Матушка твоя кроткой была, богомольной. Пока жила – в тереме тишь да благодать стояли. А ты… Морщинистая рука вдруг касается моей щеки. – Родись ты без косы – точно бы за тобой княжеский престол пошёл.
– Плевала я на престол! – морщусь, будто и вправду во рту горькая клюква.
Братья мачехины – гуляки да баловни. Если власть достанется им – княжество разорят в пять лет. Но мне-то что? Я в их играх – всего лишь разменная монета.
– Помогу. – Вдруг решает нянюшка, и в её глазах – решимость, которой я не видела даже у воевод. – Вечером кухарки сажу выносить будут. Лицо сажей вымажешь, выйдешь с ними. Но… – Её пальцы впиваются в моё плечо. – К первым петухам – назад. Марфа, кухарка, сестра мне единокровная. Муж её повозки с провизией в терем возит. Спрячешься в мешках. Только знай… – Голос её становится тише шелеста соломы. – Опоздаешь – батюшка твой голову мне с плеч снимет.
– Не подведу. – Киваю, и сердце колотится так, будто хочет вырваться и убежать само.
До вечера хожу сама не своя, неотрывно прильнув к оконной щели. Сердце колотится, как пойманная птица, а пальцы нервно теребят край рукава. Няня, к моему изумлению, невозмутима. Сидит, согнувшись над пяльцами, и игла мерно вспыхивает в её руках, вышивая алые маки с причудливыми лепестками. Каждый стежок – точный, выверенный, будто и впрямь ничего необычного не затевается.
Я же мечусь по светлице, как запертая в клетке лисица. Уже знаю назубок: семь шагов вдоль стены, четыре поперёк, три по диагонали. Девицы должны принести два простых платья да пару поношенных платков. Нянюшка настаивает – голову покрыть в два слоя, чтобы и тени сомнения не возникло.
– Откуда им знать княжну в лицо? Я же из терема не выхожу.– Матушка твоя не здешняя была, – не поднимая глаз от работы, отвечает няня. – Присмотрись-ка.– К чему?– У местных волосы темнее. А у тебя – её игла замирает, – будто лён, что на солнце выцвел. Сразу чужую признают.
Раздается глухой стук в дверь.
– Кто там? – няня даже бровью не ведёт.– Мы… – едва слышный шёпот Белавы.
Нянюшка медленно поднимается, бормоча что-то про больные колени, и отворяет дверь ровно настолько, чтобы просунуть руку.
– Видел вас кто? – шипит она, остро глядя поверх их голов в тёмный коридор.– Нетути… – Ожана крепче прижимает свёрток к груди.
Няня крестится широким, отчаянным крестом, разворачивая узел с одеждой.
– На погибель ты меня толкаешь, голубка, – бормочет она, и в голосе вдруг прорывается дрожь.
– Прости… – шепчу, опуская глаза.
В горле комом встаёт непрошеная благодарность.
– Не передумала?
Ответа не требуется – я уже срываю с себя свое дорогое одеяние. Льняная ткань грубо скребёт кожу, когда натягиваю серую рубаху с потрёпанными рукавами. Поверх – платье, пропахшее дымом, с пятнами сажи на подоле. Девицы, перешёптываясь, заплетают мою косу в тугой узел, укрывая сначала чистым, а поверх – грязным, вылинявшим платком.
Няня зачерпывает полную горсть сажи.
– Дыши ровно, – командует она и грубо мажет мне лицо, как будто замазывает грехи.
Горькая пыль щиплет глаза, я отшатываюсь, заливаясь неудержимым чихом.
– Ну как, по нраву тебе воля-то? – няня ухмыляется, вытирая руки о фартук. – Не только луга да песни. Это ещё и сажа в горле, и мозоли на ногах, и холодные щи впроголодь. Всё ещё хочешь?
– Хочу! – выдыхаю я, впиваясь ногтями в ладони.
– Не отступишь?
– Не отступлю.
Няня резко поворачивается к перепуганным девкам:
– Чего уставились, как овцы на новые ворота? – шипит она, тут же понижая голос. – Помните: коли к утру не вернётся – всем нам батюшка её головы поснимает. А если проболтаетесь – сначала кожу сдерут, потом голову отрубят.
Девушки молча кивают, бледные как мел.
– Языки отняло? – взрывается няня.
– Может… можете на нас положиться, – выдавливает из себя Белава.
– Да, можете, – торопливо подхватывает Ожана. – Только…
Она запинается, уставившись на мои ноги.
– Говори! – хватаю её за рукав.
– Обувь… – шёпотом произносит Ожана. – Босиком не уйдёшь, а сапоги княжны…
Я поднимаю подол. Алые сафьяновые сапожки с серебряными петлями. В них не убежишь. Не спрячешься. В них можно только величественно шествовать, как учили с детства – "плыть, словно лебедь по воде".
– Нянюшка?
Старуха язвительно хмыкает:
– Босая далеко не уйдёшь… Хотя, – её глаза сверкают, – может, так и надо, чтобы прочувствовала всю "прелесть" воли.
Она резко оборачивается к Ожане:
– Снимай свои башмаки. Да поживее!
Девушка, скривив губы, медленно снимает свои башмаки. Грязные, стоптанные, с торчащими нитками по швам. Беру их в руки – грубая кожа шершавая, как кора, а внутри влажно от давнего пота. Натягиваю на ноги, и холодная сырость обволакивает ступни. Завязки перекручиваются, впиваясь в лодыжки.
Делаю пробный шаг. Подошва – тонкая, как блин, каждый камешек чувствуется будто ножом. Второй шаг. Третий. Смешно. В этих "башмаках" разве что на базаре стоять, а не бежать на вольный праздник.
– Все же лучше, чем босиком по холодной земле, – выдавливаю из себя, хотя знаю – в моих расшитых сапожках хоть подметки есть.
Нянюшка вдруг хватает меня за подбородок, заставляя поднять глаза.
– Теперь слушай, – шепчет она, и в голосе – сталь. – До рассвета. Ни минутой дольше.
Ее губы касаются моего лба – сухие, потрескавшиеся, знакомые. Точь-в-точь как в детстве, когда я боялась грозы. Только теперь это не "спи, родная", а "возвращайся живой".
– Благодарю, – целую ее морщинистую руку, чувствуя под губами шрамы от давних ожогов.
И бегу.
За спиной – шепот:– Господи, спаси и сохрани…
Но я уже не слышу. Ноги сами несут меня вперед, скользя по скрипучим половицам. Девицы мелькают впереди, как тени. Внизу, за поворотом, пахнет дымом и свободой.
Глава 2
Сердце колотится где-то в горле, будто крохотная птица, бьющаяся о прутья клетки. Вспоминаются нянюшкины слова из детства: "Ты у меня – чирик-воробышек, шустрая да звонкая!" Гордой лебедушкой мне не быть – так хоть на одну ночь стану вольной птахой, пусть даже сорокой-воровкой.
Ожана крадется впереди, каждый ее шаг – осторожный, выверенный. Тень среди теней. Вижу, как дрожат ее пальцы, сжимая подол платья. Девушки боятся – и мне вдруг становится стыдно, будто я связала их невидимой цепью и тащу за собой в пропасть.
– Стой, – шипит Ожана, резко вскидывая ладонь.
Мы замираем, слившись со стеной. В ушах – только бешеный стук сердца, но постепенно начинаю различать мерные шаги по коридору.
Служанка мачехи проходит в двух шагах, неся серебряный кувшин с чем-то терпким и пряным. Запах доносится даже сквозь дрожь страха – медовуха с гвоздикой, любимый напиток мачехи. Ждем, пока шаги не растворятся в темноте.
Спускаемся вниз, цепляясь за скользкие от времени ступени. Кухня встречает нас запахами тмина и кислого теста. А потом – вздох ночи.
Чистый, колючий воздух бьет в лицо, обжигает легкие. Я вдыхаю его жадно, как утопающий – глоток жизни. Голова кружится – не от страха, а от внезапной, головокружительной свободы.
– Княжна… – Белава осторожно толкает меня к воротам.
– Не называй меня так! – вырывается резче, чем хотелось.
Осознаю: мы забыли самое простое – легенду. Глупости!
– А…
– Мила. Просто Мила, – выдыхаю, и это имя вдруг кажется мне настоящим, как будто я сбросила с плеч тяжелый парчовый покров.
Батюшка нарек Радмилой – но кто запретит мне одну ночь быть просто Милой? Не княжной, не дочерью правителя, не проклятой наследницей – а просто девушкой, чувствующей ветер в волосах и землю под босыми ногами.
Свободной.
Счастливой.
Настоящей.
Поднимаю голову, и дыхание замирает. Надо мной раскинулось бескрайнее полотно ночи, усыпанное мириадами мерцающих огней. Нянюшкины слова всплывают в памяти: "Там, в вышине, в чертогах иного мира, наши предки зажигают свечи в окошках, чтобы мы знали – они ждут нас". Прищуриваюсь, пытаясь разглядеть – где же среди этого звездного моря светится окошко моей матушки? Мы обязательно встретимся. Когда придет час, ее огонек поведет меня, как маяк в ночном море.
Глубокий вдох. Горький, холодный, наполненный свободой. Вспоминаю, как днем княжна может выйти из терема – только в окружении свиты, только под полотнищами, загораживающими от людских глаз, словно я прокаженная. Лицо должно быть скрыто, походка – размеренной. Не женщина – призрак в золотой клетке.
– Пойдемте… – голос Ожаны вырывает меня из мыслей.
– Пойдем, Ожана, пойдем, – поправляю ее. – Сегодня ночью я такая же, как ты.
Шаги наши легки и быстры, пока мы пересекаем внутренний двор. Тени играют с нами, пряча в своих объятиях. Вот-вот – наружные ворота, за ними – мир, полный жизни и смеха.
– Куда? – раздается из темноты хриплый голос, и сердце буквально останавливается.
Страх. Холодный, липкий, сковывающий. Стражник, которого я не заметила, выступает из тени столба, его фигура кажется огромной и угрожающей. Воздух вырывается из легких, ноги становятся ватными. Всё. Всё кончено, даже не начавшись.
Но Белава, моя верная Белава, шагает вперед, заслоняя меня собой.
– На праздник, – говорит она спокойно, будто так и должно быть. – Пропусти, дядько Ивар.
Ее голос не дрожит, руки не трясутся. Как она может быть такой спокойной? Секунда. Две. Тишина, которую разрывает только бешеный стук моего сердца.
Страх еще не отпустил, но уже смешивается с надеждой. Может быть… Может быть, все получится? Может быть, сегодня ночью я действительно стану просто Милой?
– Нечего по ночам девкам одним шастать, – хмурит свои кустистые, будто мохнатые гусеницы, брови дядька Ивар. Его голос – как скрип несмазанных ворот, грубый и предостерегающий.
– Так сегодня же ночь на Ивана Купала, – вступает Ожана, и я слышу, как дрожит её голос, будто лист на ветру. – Венки плести будем, да на воду спускать.
– Знаю я, какие вы венки плести будете, – отмахивается стражник, но в уголках его глаз собираются морщинки-лучики, и губы дрожат от сдерживаемой ухмылки. – По осени потом хоть на свадьбу пригласите?
– Конечно! – звонко выпаливают девушки, и их голоса сливаются в один, как ручейки в весеннем потоке.
– Ну добро, – кряхтя, поднимается Ивар.
Его доспехи скрипят, будто недовольные этим решением. Он медленно подходит к калитке, вырезанной в дубовых воротах, толстых, как стены терема. – А это кто с тобой, Белава? – тычет корявым пальцем в мою сторону.
Сердце моё – будто перепел в силке – замирает, затем бешено колотится, готовое вырваться из груди. Может, ему там, в пятках, и правда остаться? Теплее будет…
– Так племянница тетки Зареславы из Малиновки, – без единой запинки лжёт Белава.
Её голос – ровный, как поверхность лесного озера в безветренный день.
– Она на праздники приехала.
– Ох уж ваши праздники… – качает головой Ивар. – Одни почему? Неужто некому проводить?
– Дядько… – начинает Белава, но старик взмахом руки, грубой, как кора старого дуба, обрывает её.
– Цыц! Сейчас быстро провожатого найду.
– Дядько Ивар! – вступает Ожана, и в её голосе слышится нотка отчаяния, как у зайца, попавшего в капкан. – Мы сами… Нас уже ждут. Там, за пригорком. Не заблудимся.
Тишина. Только сверчок за печкой трещит, будто отсчитывает секунды до нашей погибели.
– Ладно, Бог с вами, – наконец сдаётся Ивар, махнув рукой, словно отгоняя назойливую муху. – Идите, но будьте осторожны. Его голос внезапно становится серьёзным, как земля перед грозой. – Помните, что не только нечисти нужно ночами бояться.
Последние слова повисают в воздухе, тяжёлые, как туман над болотом. Но калитка скрипит, открываясь, и перед нами – тёмная, усыпанная звёздами дорога к свободе.
Я делаю шаг вперёд – первый шаг в новую жизнь. Настоящую. Свою.
Мы дружно, но молча киваем и выскальзываем из ворот, словно три тени. Только когда скрываемся за небольшим овражком, за поворотом, где уже не видно высоких теремных стен, ко мне приходит ошеломляющее осознание – половина задуманного уже удалась!
Я на свободе!
Воздух перехватывает в груди, словно кто-то сжал легкие в кулаке. От нахлынувших чувств темнеет в глазах, и я хватаюсь за ствол березы, чтобы не упасть. Свобода. Это слово жжет губы, как первый глоток молодого вина.
– Вот тут, под кустом можно оставить одежду, – шепчет Белава, ее пальцы ловко расстегивают завязки моего верхнего платья. Грубая ткань соскальзывает с плеч, будто сбрасываю вместе с ней всю прежнюю жизнь.
Сбоку, за колючими кустами, слышится журчание – живое, звонкое, не то что мертвая тишина теремных покоев.
– Там родник. Можно умыться.
Осторожно обхожу колючие ветки, которые норовят вцепиться в подол, будто последние цепи, не желающие отпускать. И вот он – родник, серебрящийся в лунном свете. Вода переливается, как расплавленное серебро, и мне кажется, будто передо мной чаша с оборотным зельем из сказок. Стоит сделать глоток и обернешься зверем лесным.
Падаю на колени, не обращая внимания на мокрую землю, и жадно пью. Вода ледяная, от нее сводит зубы и колет в висках, но это самая сладкая боль в моей жизни. Смываю сажу, и вместе с грязью уходит тяжелый взгляд тех, кто всю жизнь видел во мне только княжну.
Сегодня я буду живой. Настоящей. Как никогда раньше.
Меня пробирает на смех – смех, который рвется из горла, звонкий и немного безумный. Душу переполняет такое ощущение счастья, что кажется, будто вот-вот взлечу, как та самая птица, о которой говорила нянюшка.
Видят боги, если бы не ее добрые глаза и трепетные руки, никогда бы не вернулась в этот проклятый терем. Никогда.