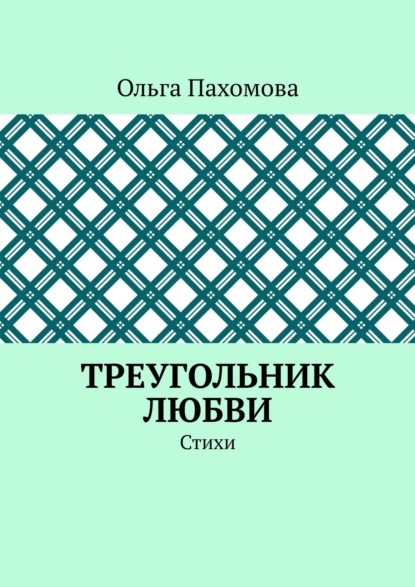Инструкция по выживанию для тех, кто не хотел выжить
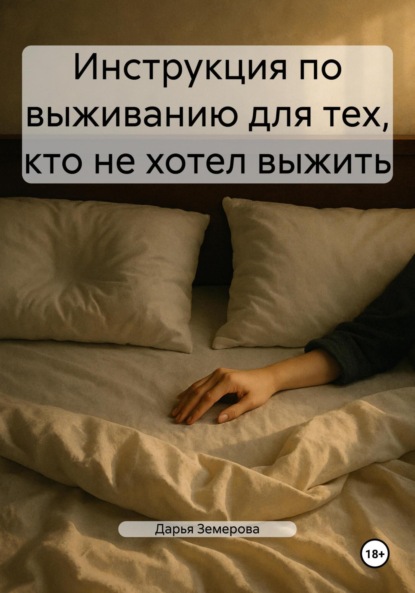
- -
- 100%
- +

– Распишитесь вот здесь, – говорит женщина за стойкой.
У неё идеально гладкие ногти. Цвет «винный закат». Я бы, наверное, так и сказала, если бы продавала эти лаки. Винный закат. Пепельный декаданс. Заметное отсутствие жизни.
– Это что? – спрашиваю.
– Подтверждение получения тела.
Я не подписывала ничего, когда его у меня отняли.
Шариковая ручка дрожит в пальцах. Кажется, я забыла, как писать, или как держать ручку, или как двигать рукой. В любой другой день я бы сказала, что у меня инсульт. Сегодня – просто пятница.
Расписываюсь.
Каракули на бумаге – доказательство того, что кто-то ещё жив. В смысле – я.
– Хотите взглянуть? – спрашивает она.
Хочу ли я. Что за дурацкий глагол. Хочу ли я посмотреть на мужа, который теперь числится в реестре нежилых. Я киваю, но не потому что хочу, а потому что если скажу «нет» – не смогу себе этого простить.
Она ведёт меня по коридору. Плитка под ногами скользкая, в голове – шум, как будто я под водой.
Дверь. Табличка.
Кусок мира, откуда теперь никто не возвращается.
Я смотрю.
Он.
Не он.
– Всё в порядке, – отвечаю я ей на самый тупой вопрос в мире, который можно задать человеку, который пришёл забирать мёртвое тело своего мужа.
Не знаю, почему. Наверное, чтобы кто-то из нас точно знал, что всё в порядке.
Я иду по улице и вдруг понимаю, что мне нечего сказать. Вообще.
Не то чтобы я раньше была особо многословной, но теперь – тишина. Даже внутри головы. А раньше он болтал за двоих. С серьёзным лицом рассказывал, как наш холодильник – агент под прикрытием.
– Варя, ты не замечаешь? Он каждый день делает вид, что работает, а на самом деле – следит. Камера в майонезе. Прослушка в огурцах. Холодный, расчетливый, бездушный. Настоящий бухгалтер КГБ.
– Так, – говорила я, – отставить конспирологию.
– А ты не думала, что именно так они и говорят, когда уже завербованы?
Он был дурак.
Мой дурак.
Я всегда смеялась, даже когда он пересказывал это в третий раз. У него была такая тактика – повторять, пока не надоест, а потом ещё раз, чтобы добить.
И каждый раз, подходя к холодильнику, он стучал по дверце, как по сейфу, и говорил:
– Работай, падла. Я тебя раскусил.
Он мог быть серьёзным, мог быть гениальным, но чаще был вот таким – моим антигероем комедийной сцены. И я скучаю даже по этому. По особенно тупым шуткам, по тому, как он потом спрашивал: «Ну признай, смешно же было?»
И ведь было.
Боже, как же было.
Я вернулась домой в 17:43, не потому что хотела. Просто больше некуда было идти. Дверь открылась слишком легко, как будто не знала, что сегодня ей положено скрипеть траурно. Внутри пахло мятой и пылью. Мята – потому что чайник в последний раз кипятился три дня назад, когда он ещё был жив. Пыль – потому что никто не готовится к смерти по расписанию. Я положила ключи на полку. Они упали. Не в первый раз. Мы сто раз обсуждали, что полка неудобная, но каждый раз забивали.
– Надо бы заменить, – пробормотала я.
Тишина не ответила. Я прошла на кухню. Его чашка стояла у раковины. Краешек сколот. Мы всегда спорили, выбросить её или нет. Он говорил, что она – как мы. Небольшая трещина, зато держит тепло. Я оставила её на месте.
Он умер от глупости. Не какой-то поэтической, не от тоски, не от зла. От одной маленькой артерии, которая решила, что может взять выходной.
Инсульт.
32 года.
Я в это не верю.
Потому что как можно умереть, если ты только вчера шутил про холодильник?
Я всё жду, что он напишет:
«Ну? Достаточно убедительно? Сценка получилась? Вызывай «Оскар», я тут в прихожей, в коробке из-под пиццы».
Но коробка под раковиной пуста. И пиццы там нет, только огрызок прошлого. И я. Смотрю на чашку. Она балансирует на самом краю, будто тоже не уверена, падать или нет.
Я включила телевизор. Мы третий раз пересматривали «Игру престолов». Не потому что я фанатка, а потому что…
– Посмотри на это, – сказал он однажды, – мы уже на десятой серии, а ты всё равно не помнишь, кто у кого родной брат. Это как если бы я забыл, какой у тебя цвет глаз. – Я не могла забрать у него эту шутку. Он был прав – я забывала. Столько деталей, что порой на полпути не могла вспомнить, кто кого убил, хотя уже видела, как эти твари сражаются. И он за кадром всегда добавлял: «Эй, давай смотреть внимательно».
Ну и вот, я его снова включила. С той же пиццей, с тем же диваном, с теми же разговорными шутками, которые он выдумывал по ходу просмотра. Всё то же самое. Только его не было. Я сжала подушку. Уткнулась в неё носом, как идиотка, стараясь не плакать. Всё равно никто не видел. На экране Джон Сноу умирал. Я знала, что будет дальше. Мы оба знали, что будет. Он говорил: «Он всегда воскрешается. У него резиновая душа». И я смеялась.
Он не вернётся, конечно. Не на экране, не в жизни.
И я смотрела эту чёртову серию, пытаясь не замечать, что никто рядом вообще не дышит, не двигается, не смеётся.
Он ушёл.
Не в шутку.
По-настоящему.
– Ты не можешь сидеть здесь, понимаешь? – сказала я вслух, а сама пыталась удержать слёзы.
Его нет. Не в этой жизни, не в сериале.
– Глупая ты.
Он не ответит.
Всё.
Так.
Теперь я одна.
Экран мерцал. Проклятая пустота внизу.
Телефон зазвонил в самый драматичный момент. Я вздрогнула. Имя на экране – "Мама". Ну конечно.
– Варя?
Я не люблю, когда меня спрашивают, я ли это. Особенно, если я только что дважды сбросила вызов.
– Угу.
– Ты ела?
Классика.
– Мам, у меня траур, не грипп.
– Не остри. Организм в стрессе, надо поддерживать. Я сварила суп, могу привезти.
Я посмотрела на диван. Там лежал плед, под которым он обычно прятался, когда делал вид, что «у него депрессия и он нуждается в ласке».
– Не надо. Я справлюсь.
– Варя, ты не должна быть одна.
– Я не одна. У меня тут тридцать три обезглавленных персонажа и драконы.
Пауза. Мама вздохнула.
– Я серьёзно. Я понимаю, что тебе тяжело…
Вот в этот момент я всегда напрягаюсь. Когда кто-то говорит, что понимает. Потому что не понимает никто. Даже я не понимаю. Я просто дышу – по привычке.
– Мама, давай не будем.
– Варюша…
Ужасное слово. Как «перекись» или «футболка с пайетками».
– Ты сильная, я знаю. Но не надо быть сильной одной.
Мама, конечно, хотела помочь. Как могла. Просто все её «как могла» – это борщ, укутаться, молиться, и «время лечит».
А мне хочется разбить эту чашку с краем и кричать:
– НИ-ЧЕ-ГО ОНО НЕ ЛЕ-ЧИТ.
Но я не кричу.
– Мам, давай я тебе перезвоню.
– Хорошо. Только, Варя…
– Что?
– Помни, ты не одна.
– Спасибо.
Я сбросила вызов и уставилась в экран. Джон Сноу лежал в луже крови. Он хотя бы не слышал, как его мама спрашивает, ел ли он. Удачливый ублюдок.
Ночью квартира становится особенно громкой. Слышно, как холодильник дышит, как труба в ванной ворчит, как будто тоже не справляется с утратой, как пол скрипит под пустотой. Я лежу на кровати и не сплю. Вернее – лежу на своей стороне. Его – пустая. Простыня даже не помялась. Он всегда спал с правой. Чуть на боку. Обнимал меня, как будто боялся, что ночью кто-то придёт и утащит. Я тогда смеялась:
– Кому я нужна ночью, кроме тебя?
– Именно. Я не делюсь.
А теперь делишься. С пустотой. С её молчаливым присутствием, которое тяжелее, чем любой человек.
Я пытаюсь закрыть глаза. Считаю баранов. Вспоминаю дыхание рядом. Оно всегда было неровным – как будто он каждый раз забывал, что дышит.
Сейчас ровно. Слишком.
Я бы отдала всё, чтобы он опять сопел рядом, как пьяный кабан, и я могла бы его пнуть.
– Перевернись, задушу, – говорила я.
– О, брутальная ты моя.
Я ржала.
Сейчас я не ржу.
Я уставилась в потолок. Он раньше говорил, что на нём есть пятно, похожее на контур Африки. Я никогда не видела Африку…. но теперь вижу....
Всё, что он видел – я теперь вижу. Всё, что любил – я теперь охраняю. Как цербер. Только охранять больше нечего. Я переворачиваюсь на его сторону. Наволочка пахнет им. И вот тогда, только тогда – выходит один звук. Маленький, сломанный, будто из горла у ребёнка, который не хочет признаваться, что больно.
Всё. Один раз всхлипнула – и хватит, потому что если дать волю, начнётся наводнение, а завтра ведь надо вставать. Надо жить, надо есть, пить, работать, делать вид, что ты – не призрак.
Я снова смотрю в потолок.
– Ты слышишь? – шепчу. – У меня снова бессонница. Где ты там с твоими сказками? Расскажи мне про север и драконов.
Пауза. Тишина.
Я снова на его стороне кровати. Подушка – будто чужая. И в темноте, когда уже почти проваливаешься в сон, мозг, эта гадина, подсовывает тебе не кошмары. Хуже – воспоминания.
Я тогда стояла в супермаркете. Осень, дождь, ботинки промокли. В руках была пачка печенья и сломанный зонт, который я проклинала каждый двадцать седьмой шаг. Он стоял у кассы и смотрел на ценник на шоколад. Поднял взгляд – и прямо на меня.
– А ты, случайно, не знаешь высшую математику?
Я моргнула.
– Только если шоколад – это "икс", а зарплата – "игрек".
– Тогда у нас с тобой общий диплом.
Мы оба рассмеялись. И всё.
Знаешь, это бывает редко – когда смех с человеком не как с продавцом или соседом, а как будто ты… внутри одной шутки.
Он купил шоколад. Я – печенье. На выходе оказалось, что он забыл зонт. Я предложила свой.
– Он сломан.
– Ну, зато это будет сразу проверка на прочность.
Он подставил мне плечо. И мы пошли, вдвоём, под зонтом, который разворачивало, как парус. Мокрые, смешные, чужие.
А потом он сказал:
– Я вообще-то не верю в судьбу, но если она есть – я хочу, чтобы она выглядела как ты. С печеньем и адским настроением.
Я тогда ничего не ответила. Просто посмотрела на него. И вот в этой секунде – всё случилось. Без фейерверков. Без музыки. Просто… как будто вернулась домой, хотя никогда там не была. Он был не герой, он был обычный. С глазами, которые смеялись раньше, чем рот, с руками, которые всегда знали, как обнять, а не просто держать.
А теперь…
Всё.
Я поворачиваюсь к стене. И шепчу в темноту:
– Вернись хотя бы на один день. Хотя бы на одну чёртову прогулку под дождём.
Утро наступает, как кредитка после отпуска. Вроде ты знал, что оно будет, но всё равно – хочется спрятаться под кровать. Я стою у зеркала и смотрю на своё лицо. Не плакала. Не опухла. Даже тушь осталась с прошлого дня.
– Супер. Ещё пару таких ночей, и можно играть в фильме ужасов без грима.
Завариваю кофе.
Кусаю бутерброд.
Не жуется.
Выхожу.
В метро – толпа.
Все едут.
Все живут.
Я – просто перемещаюсь, как тень в кроссовках.
В офисе пахнет кондиционером и пассивной агрессией.
– Варя… – о, началось.
– Привет, – я киваю, проходя мимо Лены из бухгалтерии. Та смотрит на меня, как будто я не человек, а наглядное пособие по теме "Горе и его фазы".
– Если хочешь, можем посидеть, поговорить…
– Спасибо. Уже села. Уже сижу.
Я открываю ноутбук. Там – Excel, почта, письма от начальства.
И ни одной строки: «Привет, Варя. Жаль, что у тебя умер муж. Держись». Только «Уточните по счёту». Я бы им уточнила, да не тот счёт.
– Варя, ты как? – спрашивает Олег с отдела маркетинга. Его брови сдвинуты, как у актёра, который не знает, как сыграть «мне жаль, но я не знаю, что делать с руками».
– Супер. Муж мёртв, кофе отвратительный, жизнь – огонь. А ты как?
Он хлопает глазами.
– Ну… Если что – обращайся.
– Конечно. Особенно если понадобится консультация по SEO.
Он уходит. Я делаю глоток кофе. Горький, как жизнь, но без глубины. Когда умирает близкий, мир не замирает. Это самое страшное. Он просто продолжает работать, кушать, хихикать, обсуждать сериал. Только ты – больше не в этом мире, ты как будто в декорациях жизни. Бутафорская ты. Словно кто-то забыл выключить твоего персонажа, и ты ходишь, мигаешь, работаешь, а внутри – пустота с эхом. И никто этого не видит. Или хуже – видит, и делает это лицо. Сочувствующее, идеально гладкое. Если бы я могла, я бы сделала футболку:
«Умер муж. Да, грустно. Нет, говорить не хочу. Просто дайте кофе, плед и тишину».
В 10:47 на почту падает письмо. Тема: «Можно на пару слов?» Подписано: Игорь Валентинович – наш начальник. Ага, «пару слов». С ним это обычно час дежа вю и Excel. Я захожу в кабинет, в котором пахнет кофе, амбициями и духами с верхними нотами «я выше тебя в иерархии».
– Варя… садись.
Я сажусь. Он нервно поглаживает стол. Типичный жест человека, который не знает, как говорить о чём-то, что не в регламенте.
– Я… хотел бы выразить соболезнования.
Он делает паузу, будто я должна сказать: «Спасибо, Игорь Валентинович, ваши соболезнования залатали дыру в моём сердце».
Я молчу, а он продолжает:
– Все в коллективе очень переживают. Мы… обсуждали. Ты можешь взять отпуск. Ну, как бы… отдохнуть.
Я поднимаю бровь.
– Отдохнуть от чего? От смерти? Или от жизни?
Он моргает, как старый принтер.
– Нет, я… просто… чтобы ты восстановилась.
– Угу. Я как аккумулятор. Вставлюсь в розетку, и через неделю заряжена на сто.
Пауза. Ясно, что он не ожидал сопротивления. Ему бы – подпись под заявлением и «разрешите идти».
– Варвара, если ты хочешь остаться – пожалуйста. Я не настаиваю. Просто подумай. Мы, правда, на твоей стороне.
Ах да, та самая сторона – где люди живы и не пугаются, когда ты входишь в лифт.
– Я подумаю, – говорю.
Он кивает с облегчением, будто только что разминировал офисную гранату.
– Хорошо. Если что – моя дверь всегда открыта.
Конечно. Особенно если тебе нужно разжевать KPI или сделать вид, что ты человек, а не табличка с должностью.
Я вышла, а воздух в коридоре кажется чище. Или это я просто начинаю снова дышать? Вряд ли.
Обед.
Столовая в бизнес-центре, как всегда – шумная, пахнет подогретыми контейнерами, разогретыми диалогами и вечной войной с майонезом. Я сижу с привычной «ячейкой». Лена из бухгалтерии, Дима из ИТ и Ксюша – та, которая всегда на диете и всегда жрёт.
– Я, короче, ему говорю, – оживлённо жестикулирует Ксюша вилкой, – «если ты ещё раз оставишь носки в раковине, я вызову экзорциста!»
Мы смеёмся. Даже я. И вдруг Лена добавляет:
– Ой, ну у всех мужья такие.
Тишина. Даже чай не шуршит в стакане. Я не поднимаю глаз. Просто медленно ставлю вилку на край подноса. Ксюша кашляет, Дима делает вид, что проверяет уведомление, Лена белеет.
– Варя, прости… я…
– Всё нормально, – говорю. И даже улыбаюсь. Челюсть сводит от усилия.
Потому что не нормально. Потому что я тоже хочу говорить:
«А мой муж постоянно забывал, куда поставил кружку. А ещё ел мороженое в душе. А ещё знал весь саундтрек к "Друзьям" наизусть».
Я хочу участвовать. Хотеть – это уже почти боль. Но мой муж – в прошлом времени, а у них – настоящее, и будущее. Я доедаю молча, Лена тоже больше ничего не говорит, Ксюша нервно комкает салфетку.
– Ну, я пойду, – говорю я, задвигая за собой стул.
И ухожу. В спину – слишком много молчаливого сочувствия, слишком мало настоящего.
Снова предательское воспоминание….
Это было в ноябре. Холодно. Мокро. Пальцы замёрзли так, будто больше никогда не согреются. Мы стояли у кофейни на углу. Он взял себе латте с сиропом, я – чёрный, как моя ирония.
– Ну, всё, ты официально странная, – сказал он.
– Почему?
– Кто пьёт чёрный кофе в ноябре? Без сахара? Без всего?
– Я. Та, с которой ты, между прочим, на свидании.
Он усмехнулся.
– Знаешь, мне нравится.
– Что именно?
– Что ты не прячешься. Ни за сливки, ни за вежливость.
И тогда… он просто подошёл ближе, медленно, словно давал мне время сбежать. Но я не хотела. Его пальцы чуть коснулись моей щеки. Губы – мягкие, тёплые, немного дрожащие от холода. Мы поцеловались, а вокруг проезжали машины, кто-то курил в переулке, в кофейне играло что-то дурацкое вроде The Weeknd, и всё равно – мир встал на паузу. Это был не идеальный поцелуй. Не как в кино. Но он был наш.
Сочувствие – самое липкое из чувств. Оно цепляется за тебя, как детский пластырь. Мягкое. Бесполезное. Липкое. Люди смотрят на меня, как на кошку без лапы, которую надо пожалеть, но не трогать. Они говорят «держись», как будто я стою на краю и просто так, для веселья, решила балансировать. Они шепчутся:
«Бедная Варя. Молодая. Вдова. Такой ужас…»
Да, я вдова, но знаешь, что хуже?
– Я всё ещё жена.
Я готовлюсь спросить у него, что купить домой. Я всё ещё помню, как он чесал лоб, когда думал. Я всё ещё люблю его. И когда кто-то говорит: «Ты должна жить дальше», Я хочу крикнуть:
– А куда вы дели моё «до»? Моё «вдвоём»? Где мой чек на новую жизнь, если уж вы так уверены, что я «должна»?
…
Я не хочу сочувствия.
Я хочу его.
Дома тихо. Даже холодильник не гудит, даже полы не скрипят. Может, это я просто больше не слушаю?
Я бросаю пальто на кресло, как будто оно виновато в том, что всё так, сапоги скидываю где попало. Всё равно – никто не скажет, что бардак. На кухне чашка. Та, его любимая. С логотипом «Stark Industries». Подарок на Новый год. Тогда мы ещё спорили, кто круче – Железный человек или Тор.
Он всегда говорил:
– Железный человек, Варя. Потому что сарказм – лучшая броня.
Я тогда засмеялась и сказала, что это про меня. Теперь броня трещит. Я открываю ящик, беру блокнот, тот самый – с его каракулями на последних страницах. Сажусь за стол, и начинаю писать.
“Привет. Я не могу снова писать «дорогой» и «любимый». У меня горло слипается от этих слов. Слушай, ты серьёзно? Вот так? Уйти? Я тут, между прочим, каждый день сражаюсь.
С твоей щёткой, которую не выбросила, с твоей футболкой, в которой сплю, с тем, что никто не храпит рядом.
А ты…
Ты взял и умер.
Мне кажется, ты бы сейчас что-то вякнул. Типа: «Не плачь, Варя, ты размажешь тушь и станешь похожа на панду-террориста».
Я бы обозвала тебя идиотом. Ты бы поцеловал меня в нос. Я скучаю. До тошноты, до рвоты, до слёз, которые идут без разрешения. И все, чёрт бы их побрал, всё время говорят мне, что «время лечит».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.