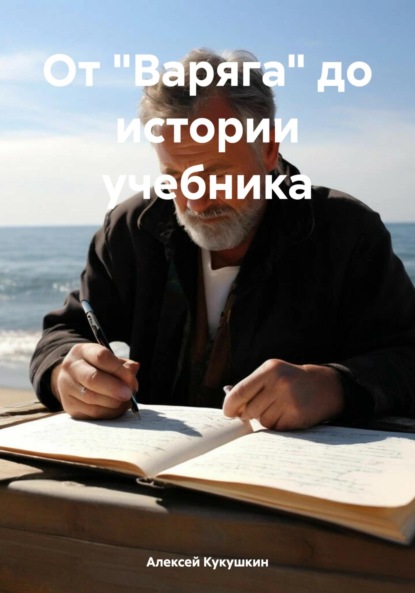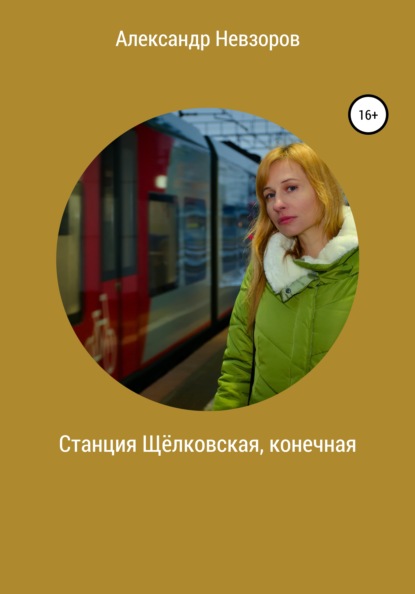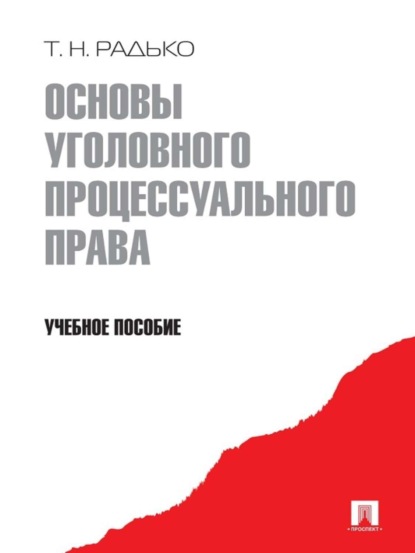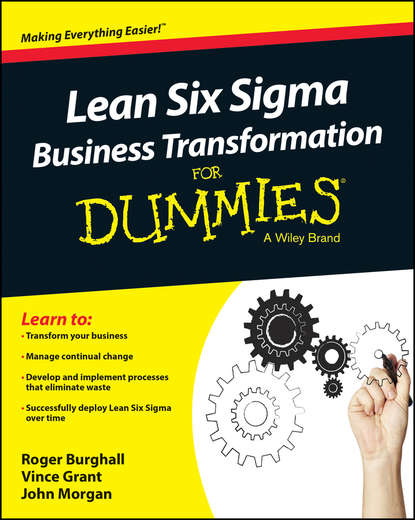Театральная цензура в Ленинграде в годы «оттепели»
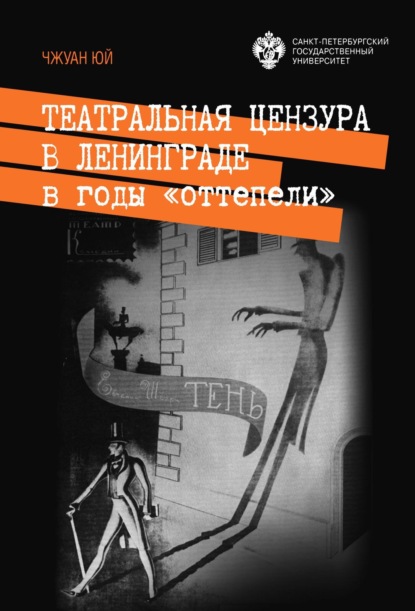
- -
- 100%
- +
М. В. Зеленов приводит следующую классификацию деятельности подразделений Главлита в 1954–1958 гг.: «…первый отдел занимается ведением секретного делопроизводства; второй отдел – “иностранный” – контролирует ввоз, хранение и использование иностранной литературы, вывоз научно-технической советской литературы за границу; третий отдел осуществляет цензуру материалов иностранных корреспондентов; четвертый отдел – “русский”; пятый отдел осуществляет цензуру научно-технической литературы и картографических материалов; шестой отдел контролирует газеты, центральное радиовещание и ТАСС; седьмой отдел занимается очищением книжных фондов библиотек и книготорговой сети; восьмой отдел – “местный” – осуществляет инспектирование и выборочный последующий контроль уже изданной литературы; девятый отдел контролирует репертуар и изобразительное искусство, искусствоведческую литературу, музеи и выставки; десятый отдел – “перечневый” – разрабатывает положения и инструкции»[110].
Таким образом, согласно структуре Главлита, его девятый отдел, как и Комитет по делам искусств, контролировал репертуар театров. По поводу функционального дублирования А. В. Блюм отмечал: «Между Комитетом по делам искусств и Главлитом годами тянулась тяжба: каждое ведомство претендовало на единственное и монопольное право наблюдения за репертуаром. Над ними, естественно, стояли партийные идеологические органы, которые и решали в конечном счете судьбу произведений»[111]. Кстати, противоречия между обоими органами существовали недолго. В постановлении ЦК КПСС «О положении дел в Главлите СССР» от 18 января 1957 г. было отмечено: «Признать необходимым освободить Главлит от контроля за репертуаром театров и других зрелищных предприятий… возложив эти функции на Министерство культуры и его местные органы»[112]. В 1958 г. после второго преобразования отделы Главлита сократились, он состоял теперь из семи отделов[113], из них четвертый отдел занимался предварительным контролем литературы, изопродукции, текстов для театров.
О распределении полномочий между различными органами цензуры в Ленинграде можно судить по архивным документам. Анализируя отчеты Ленгорлита о работе Управления по охране военных и государственных тайн в печати, можно заметить, что больше внимания уделялось контролю над драматургией малых форм, а многоактные пьесы рассматривало Главное управление культуры Ленгорисполкома[114]. По новому положению о Главлите 1958 г. был восстановлен его предварительный контроль над текстами многоактных произведений для театров. Это доказывает переписка Ленинградского театра Комедии с Леноблгорлитом. Но до 1958 г. Леноблгорлит не так активно участвовал в деле управления деятельностью драматических театров (как и Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области), поскольку театральная цензура оказалась в ведении другого органа – Управления культуры исполкома Ленгорсовета, которое фактически руководило театральной цензурой в городе. Управление культуры осуществляло государственный контроль над работой сети многочисленных профсоюзных и ведомственных театральных организаций, идейно-художественное и организационное руководство театрами и другими учреждениями культуры республиканского подчинения. Руководство десятью организациями было передано Управлению культуры по той причине, что его начальник являлся уполномоченным Министерства культуры РСФСР по Ленинграду[115].
Следует отметить, что в рассматриваемый период партийный аппарат подмял под себя государственные органы. На местах партийные органы также приняли участие в контроле над драматическими театрами. В фондах Ленинградских обкома и горкома ЦГАИПД СПб сохранились стенограммы, отражающие ход утверждения репертуарного плана драмтеатров и обсуждение идейно-художественного уровня драматических произведений. Эти документы доказывают факт участия партийного аппарата в театральной цензуре. В записке А. А. Фадеева, возглавлявшего Союз писателей СССР, направленной в ЦК КПСС 14 сентября 1953 г., предлагался такой же подход – передать руководство литературой и искусством партийным органам, освободив от этого государственный аппарат[116]. В первой части записки Фадеев отмечал, что целесообразно было бы возложить на партийные органы идейно-художественное руководство в сфере литературы и искусства, а государственный аппарат должен заботиться об административных вопросах, например о строительстве жилых домов и домов отдыха, клубов, материально-бытовых условиях жизни деятелей культуры, штатах и т. п.[117]. А. В. Блюм отмечает, что «в годы оттепели и застоя функции Главлита несколько сужаются: идеологический и политический контроль все больше переходит в ведение партийных инстанций. Помимо того, существенную роль начинают играть самоцензура авторов и, в еще большей степени, издательская и редакторская цензура»[118].
Что касается конкретного устройства УК Ленгорисполкома, то архивные документы позволяют восстановить структуру ведущего цензурного органа. УК состояло из 11 секторов[119], что немного не соответствовало 16 структурным подразделениям, прописанным в постановлении Совета Министров РСФСР № 733 (табл. 1).
Идейно-художественным управлением в сфере театрального искусства в Ленинграде в 1953–1964 гг. фактически занимался отдел искусств. Выполнялись следующие задачи: рассматривались и утверждались репертуары театров, отслеживалось состояние текущего репертуара, проверялся литературный материал, предназначенный для сцены театров или эстрады. Отдел искусств УК вместе с художественным советом давал разрешение на выпуск грампластинок, проверял всю изопродукцию, изготовляемую как государственными, так и кустарными организациями[120]. В отделе искусств трудились восемь постоянных сотрудников. Это был самый большой отдел в УК. Начальник отдела искусств одновременно занимал должность заместителя начальника УК. Согласно решению исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 29 мая 1959 г. № 27–21-п «Об утверждении структуры и штатов аппарата исполкома Ленгорсовета и его отделов и управлений» и приказу Министерства культуры РСФСР № 472 от 2 июня 1959 г., заместителю начальника УК подчинялись следующие организации: драматические, музыкальные, кукольные театры, Дом народного творчества, дирекция театральных касс, Музей городской скульптуры, Театральный музей. В его полномочия также входили контроль за сооружением и охраной памятников искусств, за творческой деятельностью «Ленизокомбината», комбината «Ленфотохудожник», Театрально-художественно-производственного комбината[121].
Таблица 1. Структура УК Ленгорисполкома в сравнении с рекомендованной Советом Министров РСФСР[122][123]

В штате УК числилось 69 человек[124]. К сожалению, отчеты о работе УК не содержат подробной информации о составе отдела искусств. Однако в штатном расписании планово-финансового отдела указаны штатное расписание отдела искусств (в 1953–1954 гг. указывались фамилии сотрудников, но позже, с 1955 по 1964 г., приводился только перечень должностей), изменения в руководящем составе, зарплата сотрудников. В отделе искусств работало восемь сотрудников на следующих должностях: начальник отдела, заместитель начальника, старший инспектор, инспектор, старший редактор и редактор. В 1953 г. был короткий период, когда в отделе числились девять сотрудников[125]: начальник, заместитель, четыре старших инспектора, два инспектора и старший редактор. В 1954 г. в отделе было сокращено одно место инспектора. Такой состав сохранился до 1964 г.
Важным представляется отношение членов парторганизации УК к сотрудникам отдела искусств. Партбюро высказывало мнение, что коллектив работников отдела искусств сильный, работоспособный, но руководит учреждениями культуры неквалифицированно[126]. Критика относилась именно к руководящему составу отдела.
В начале 1953 г., до создания УК Ленгорисполкома, В. А. Михнецов возглавлял отдел по делам искусства. И. С. Ефремов работал старшим инспектором в этом отделе. По распоряжению Ленгорисполкома № 1337 от 29 июля 1953 г. И. С. Ефремов был назначен начальником отдела искусств УК, с 1955 г. он одновременно занимал должность заместителя начальника УК[127]. По распоряжению Ленгорисполкома от 1 ноября 1959 г. № 679 А. Н. Козлов был назначен на должность начальника отдела[128], но всего через год его сменила Т. А. Шубникова (распоряжение от 9 марта 1961 г. № 303-р)[129].
Для анализа деятельности отдела искусств необходимо рассказать о возглавлявшем его много лет И. С. Ефремове. И. С. Ефремов – советский режиссер и актер, залуженный деятель искусств РСФСР (с 1943 г.). Именно он установил принципы работы отдела. Его работа неоднократно подвергалась критике со стороны руководителей УК. Анализ деятельности отдела показывает, что И. С. Ефремов заботился скорее о высоком художественном уровне спектаклей ленинградских театров, чем об одобрении со стороны руководства, что и было причиной недовольства. Отношение сотрудников отдела к начальнику было разным. Например, сотрудница отдела Орлова на партийном бюро заявила: «Руководители отдела сами виноваты в том, что у нас инспекторов мало самостоятельных, ибо они сами часто занимаются мелкими вопросами, которые должны делать инспектора, а большие… вопросы упускают из поля зрения. Бывает и так, что о том или ином решении вопроса мы узнаем не от товарища Ефремова, а от подведомственных организаций»[130]. Сотрудники говорили об И. С. Ефремове как о мягком, добром человеке, не любящем вступать в споры и стремящемся сохранить хорошие отношения с театрами, которые знали об этих его качествах и использовали в своих интересах[131].
В 1955 г. произошел следующий случай. В УК упрекнули сотрудника – редактора отдела искусств Е. В. Ильмас в том, что она пропустила «недоброкачественный» материал для Ленгосэстрады. Обсуждаемые произведения[132] сильно критиковались в печати, в частности в газете «Советская культура», потом они были сняты Ленгорлитом. По мнению представителей УК, выпуск подобных произведений был большой ошибкой Е. В. Ильмас. Начальник отдела кадров УК И. В. Карнеев говорил на заседании партбюро, что Е. В. Ильмас не проявила бдительности, а показала дурной вкус, пропустив произведения. Сотрудники отдела Орлова и Николаев, которые присутствовали на заседании партбюро, считали, что виноваты руководители. Орлова сказала, что эти произведения были разрешены УК, а Николаев считал, что появление этих произведений было ошибкой не одной только Е. В. Ильмас: «Товарищ Ильмас не располагает еще необходимыми данными, которые дают ей право контроля произведения»[133]. Выпуски были подписаны начальником отдела искусства И. С. Ефремовым. Хотя Е. В. Ильмас сразу признала свою ошибку, но она и И. С. Ефремов получили выговоры за выпуск «слабоидейных произведений для эстрады». Партбюро по итогам постановило: во-первых, «предложить т. Ильмас Е. В. в корне изменить свое отношение к критике недостатков своей работы. Рекомендовать т. Ильмас Е. В. повысить культуру своего отношения к окружающим и товарищам по работе и приложить все усилия к повышению своей идейно-политической подготовки и художественной квалификации»[134]. Во-вторых, И. С. Ефремову партбюро рекомендовало добиться укрепления руководства отдела, обращать внимание на недопустимость подписания бумаг без внимательного ознакомления с их содержанием[135]. Этот случай – характерный эпизод работы отдела. Е. В. Ильмас продолжала работать редактором отдела искусств УК, даже опубликовала монографию «Театр музыкальной комедии»[136]. Выговоры партбюро с формулировкой «за слабую идейно-политическую подготовку» не были редкостью.
Если верить документам партбюро, то можно сделать вывод, что А. С. Николаев был наиболее критикуемым членом коллектива. В 1955 г. в отделе искусств работало шесть человек. И. С. Ефремов был начальником, а А. С. Николаев – его заместителем. Работало четыре инспектора. Де-факто Николаев не справлялся с работой заместителя[137]. Н. И. Фиглин, занимавший должность инспектора, во многом выполнял его обязанности. Кроме того, у Николаева не складывались отношения с инспекторами. Начальник отдела кадров УК И. В. Корнеев утверждал, что А. С. Николаев был «страшным эгоистом»[138]: хорошие отношения он сохранял только с вышестоящими. На заседании партбюро по поводу взаимоотношений А. С. Николаева с инспекторами отдела И. С. Ефремов указал, что «главная беда Николаева в том, что к нему нехорошо относятся люди, и он к ним»[139]. Кроме того, по мнению председателя партбюро М. А. Павлова, Ефремов и Николаев не всегда находили общий язык. В руководстве отдела была нездоровая атмосфера. И. С. Ефремов считал, что ему нужен другой заместитель, более авторитетный. Н. И. Фиглин вскоре после этого заменил А. С. Николаева на должности заместителя начальника отдела.
1.2. Функционирование органов цензуры в театральном Ленинграде
Архивные документы позволяют изучить систему контроля над театрами в комплексе. Драматический театр подвергался наиболее жесткому надзору. До постановки новых спектаклей все театры должны были направлять тексты пьес, которые были включены в их репертуарный план, в репертуарно-редакторский отдел Главискусства[140] (Главное управление по делам художественной литературы и искусства) Министерства культуры СССР для того, чтобы получить разрешение на постановку. Драматурги и театральные деятели называли это разрешение «визой» для постановки. Важно отметить, что репертуарно-редакторский отдел отвечал за проверку текстов пьес, а «виза» выдавалась Главлитом (Главным управлением по охране военных и государственных тайн в печати). После ликвидации Главреперткома в Управлении театров бывшего Комитета по делам искусств при Совете министров СССР в октябре 1951 г. по решению правительства был создан репертуарно-редакторский отдел, выполнявший всю работу по рассмотрению и приему к постановке новых произведений советских авторов, переводных пьес и инсценировок. Согласно приказу Министерства культуры от 4 июня 1954 г. № 1039-к, репертуарно-редакторский отдел был ликвидирован. После этого ни один орган Минкультуры СССР не занимался рассмотрением новых пьес, что затрудняло их выпуск. В записке «О серьезных недостатках в репертуаре драматических театров» отдела науки и культуры ЦК КПСС от 3 мая 1955 г. говорится о необходимости укрепления репертуарно-редакторской инспекции в министерстве, которая, видимо, проводила повседневную работу с драматургами по созданию новых пьес[141].
В действительности Главлит и Комитет не всегда могли достигнуть единогласия. По поводу взаимоотношений данных органов в области театральной цензуры А. В. Блюм писал, что между ними велась определенная тяжба: в послевоенные годы Комитет по делам искусств осуществлял надзор за репертуаром драмтеатров, а Главлит выдавал «визу» для постановки. Одновременно Главлит обладал правом контролировать репертуар театров. Оба органа боролись за монополию в управлении драмтеатрами. С учетом полномочий Комитета «Главлиту запрещалось принимать произведения непосредственно от авторов и исполнителей без письменного заключения Комитета, подтверждающего, что у него нет претензий к их “идейно-художественной ценности”. Окончательное решение принималось органами цензуры, рассматривавшими произведение с точки зрения соблюдения в них государственной и военной тайн, однако они же могли не допустить к исполнению “политически вредные, идеологически чуждые, безыдейные, халтурные, искажающие советскую действительность произведения”»[142]. С образованием Минкультуры в 1953 г. ему перешли функции комитета. Но над Минкультуры был партийный аппарат, который контролировал идейно-художественный уровень драматических произведений. Таким образом, в сфере театрального искусства «царили ведомственная неразбериха и даже своего рода соперничество»[143].
Из письма от 20 октября 1953 г. начальника УК исполкома Ленгорсовета В. Г. Артамонова министру культуры СССР П. К. Пономаренко: «Порядок разрешения к постановке и к опубликованию драматических произведений ставит их в исключительное положение по сравнению с другими жанрами советской литературы. Редакции любой газеты или журнала, книжные издательства имеют право выпуска в свет новых произведений прозы, поэзии, публицистики, самостоятельно представляя их на утверждение Главлиту. Несоответствие в вопросе визирования произведений драматургии для их постановки в театре состоит еще и в том, что в разрешении репертуарно-редакторского отдела Главискусства (Комитет по делам искусств) нуждаются только драматические произведения крупных форм, произведения малых форм, в том числе пьесы размером не свыше двух актов, утверждаются в отделах искусств Управления культуры на местах»[144].
Разрешения Главлита были необходимым элементом для успешной деятельности драматургов. Отделения репертуарно-редакторского отдела Главискусства существовали в ряде городов СССР, а его главное управление находилось в Москве. Это обеспечивало привилегированное положение московских драматургов – их пьесы быстрее проходили апробацию репертуарно-редакторского отдела, чем работы местных авторов. Например, подавая свои драматические работы в отдел, ленинградские драматурги обычно получали разрешение в течение 4–6 месяцев, иногда ожидание продолжалось целый год[145]. А для московских драматургов эти сроки оказывались гораздо короче. Поэтому ленинградские театры предпочитали сотрудничать с московскими драматургами, стремились пользоваться апробированной продукцией московских авторов. Подобная ситуация сильно тормозила творческую активность местных драматургов и приводила к противоречиям между театрами и авторами в Ленинграде. Г. А. Товстоногов на совещании в обкоме КПСС 26 января 1955 г. следующим образом охарактеризовал отношения театров и драматургов: «У ленинградских театров есть такое снобистское отношение к ленинградским авторам, недоверчивое отношение к их произведениям»[146].
Между руководством репертуарно-редакторского отдела Главискусства и местным УК возникали споры относительно управления драматическими театрами. И. С. Ефремов на партсобрании 8 мая 1953 г. сказал, что театральный отдел (при отделе искусств) не имеет права запрещать театрам ставить пьесы, которые имеют официальные разрешения, хотя бы они не очень одобрялись отделом[147]. В итоге парторганизация Управления по делам искусств исполкома Ленгорсовета решила ходатайствовать перед Министерством культуры СССР о создании в Ленинграде репертуарно-редакторского отдела, чтобы осуществлять самостоятельное управление в области театрального искусства[148]. В письме от 20 октября 1953 г. министру культуры СССР Пономаренко П. К. начальник только что созданного УК Ленгорисполкома высказал пожелание о появлении репертуарно-редакторского сектора при УК: «Управление ходатайствует перед Министерством культуры СССР о предоставлении нашему репертуарно-редакторскому сектору отдела искусств права рассмотрения и передачи поступающих к нему пьес непосредственно в Главлит для разрешения их к постановке в театрах города и страны»[149]. В дальнейшей переписке не содержится информации по данному вопросу. Но это не значит, что Министерство игнорировало местные требования. В конце 1955 г. руководство УК Ленгорисполкома получило приказ Министерства культуры, в котором указывалось: «Предоставлено право самостоятельно решать вопрос о выпуске в свет для широкого распространения пьес драматургов, почему-либо не принятых ленинградскими театрами, но представляющих интерес для других театров»[150]. С этого времени Министерство отдало некоторые права в области цензуры местным органам управления.
Кроме того, театры могли формировать свой годовой репертуарный план, но обязаны были предоставлять его на утверждение. В 1950–1960-е гг. репертуарный план драматических театров Ленинграда утверждало УК исполкома Ленгорсовета. Ежегодно перед началом нового театрального сезона в отделе искусств[151] УК проходило совещание, на котором присутствовали представители всех драматических театров города. На этом совещании обсуждался в том числе репертуарный план ленинградских драматических театров. На нем обычно присутствовали представитель Союза советских писателей (ССП), иногда ленинградские драматурги. Каждый драматический театр должен был перед совещанием сдавать свой репертуарный план в УК. Затем УК выдавало рецензию и разрешение на его реализацию. Партийный орган имел право исключить из плана любой спектакль. Например, УК исполкома Ленгорсовета 13 апреля 1954 г. решило исключить из текущего репертуара ТЮЗа спектакли «Побег» и «Девочка ищет отца» в связи с необходимостью переработки этих пьес[152]. В другом приказе УК говорилось: «Списать спектакль театра им. Ленинского комсомола “Свиные хвостики”, выпущенный в 1960 г., и ликвидировать сценическо-постановочное имущество, использовав годные материалы на другие постановки»[153]. Подобная процедура вызывала в театральном мире немало жалоб.
Следует обратить особое внимание на изменения, которые произошли в цензуре театрального искусства после XX съезда КПСС. Начался процесс децентрализации управления театрами, которые получили право частично самостоятельно определять репертуар. Повысилась роль художественных советов, была проведена тарификация творческого состава и т. д. С 1956 г. театры могли самостоятельно включать пьесы в свой репертуар, но перед постановкой пьеса должна была пройти процедуру утверждения в УК или на художественном совете при руководстве УК. В Ленинграде Леноблгорлит также занимался рассмотрением пьес. Поэтому в некоторых случаях ленинградским театрам не нужно было направлять выбранную пьесу в репертуарно-редакторский отдел Главискусства. Это сократило время ожидания разрешения на постановку. Документы переписки между Управлением по делам искусств Министерства культуры РСФСР и Леноблгорлитом о репертуарном плане показывают, что в 1953–1964 гг. Министерство культуры РСФСР смягчило правила рассмотрения пьес: полномочия по одобрению драматических произведений имели теперь и репертуарно-редакторский отдел, и местное подразделение Главлита в Ленинграде – Леноблгорлит. Иллюстрируют данную ситуацию письмо в Леноблгорлит от 3 мая 1960 г. с просьбой рассмотреть пьесу «Лабиринт» итальянского автора Паоло Леви и письмо от 4 июня этого же года с просьбой рассмотреть пьесу ленинградских драматургов М. Смирновой и М. Крайндель «У себя в плену»[154]. В итоге пьесы прошли рассмотрение в Леноблгорлите и были включены в репертуар Театра Комедии[155].
В переписке Театра Комедии с Главным управлением по делам искусств Министерства культуры РСФСР имеются свидетельства о снятии некоторых пьес с текущего репертуара театра: «В связи с износом материального оформления и нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации просим Вашего разрешения списать с текущего репертуара нижеследующие спектакли: “Повесть о молодых супругах” Е. Шварца, “Дипломаты” П. Карваша, “Ночное небо” А. Гладкова, “Ложь на длинных ногах” Э. Де Филиппо»[156].
УК стремилось демонстрировать уважение к деятелям искусств, и с 1956 г. сотрудничество между УК и художественными организациями интенсифицировалось. Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества (ЛО ВТО)[157] как общественная организация также следило за репертуарами драматических театров. Члены ЛО ВТО начали выступать на заседаниях, где обсуждались репертуарные планы перед началом нового театрального сезона.
Н. С. Хрущев в 1957 г. в докладе «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» отметил: «Исключительно важную роль в деле развития литературы и искусства, в идейном воспитании и творческой жизни каждого художника призваны играть творческие союзы, которые должны стать на деле крепко сплоченными на принципиальной основе, активными боевыми коллективами»[158]. После выступления Н. С. Хрущева статус ЛО ВТО повысился.
В отчете о работе ЛО ВТО за 1956 г. перечислены вопросы, которые обсуждались на заседаниях: 1) современная зарубежная драматургия на сцене ленинградских театров; 2) итоги работы ленинградских областных театров; 3) о деятельности журнала «Театр»; 4) репертуарные планы ленинградских театров (совместно с Управлением культуры Ленгорисполкома); 5) опыт работы ленинградских театров над сценическим воплощением произведений Ф. М. Достоевского; 6) опыт работы театра имени Ленинского комсомола над современной советской пьесой; 7) обсуждение статей М. Романова, Л. Малюгина и И. Ильинского, опубликованных в «Литературной газете»; 8) диспут на тему «Будущее театра».
Специальное заседание было посвящено Театру музыкальной комедии с постановкой и обсуждением вопроса «Проблемы жанра музыкальной комедии».
Дважды правление собиралось для обсуждения спектаклей, выдвигаемых на соискание Ленинской премии. Правление и президиум также обсуждали ряд текущих вопросов, среди которых вопросы об участии в периодическом издании «Театральный Ленинград», сборнике «А. Я. Ваганова», о подготовке к пленуму ВТО и др. Правление обсудило отчет за 1955 г. и утвердило план творческой деятельности на 1956 г.[159] Председатель правления ЛО ВТО, народный артист СССР Н. К. Черкасов, указал главную задачу ЛО ВТО: «Поддержать передовое, заслуживающее внимания, вовремя заметить нездоровую тенденцию, предостеречь от возможной ошибки – в этом задача тех обсуждений и дискуссий, которые проводит ВТО»[160].