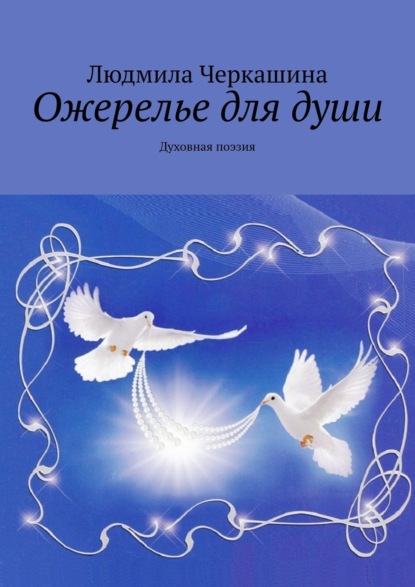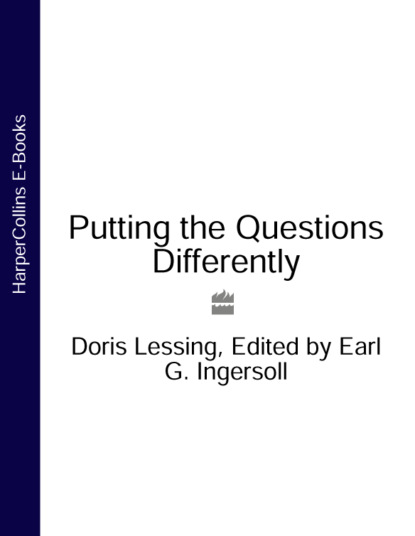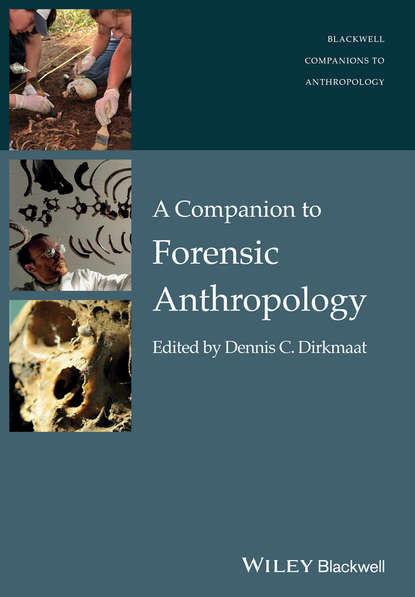Театральная цензура в Ленинграде в годы «оттепели»
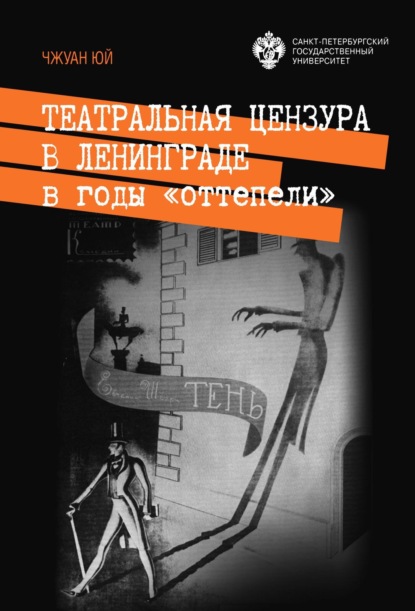
- -
- 100%
- +
Главное противоречие между театральными деятелями и УК заключалось в том, что деятели искусства хотели, чтобы генеральную репетицию оценивала только художественная сторона, по мнению же сотрудников Управления, она должна была стать идеологическим фильтром для спектаклей, помогать избегать идеологических ошибок в работе. Для УК приглашение представителей фабрик, колхозов, заводов, стройорганизаций на общественные просмотры было способом осуществить курс на «тесную связь литературы и искусства с жизнью народа». Таким образом, приказ министра культуры СССР об общественных просмотрах в Ленинграде вызвал недовольство деятелей искусства и жалобы в адрес УК Ленгорисполкома, которое непосредственно следило за деятельностью театрального сообщества города.
Можно предположить, что в 1956 г. на первом заседании после преобразования ХС Управления руководство не просто так коснулось вопросов проведения мероприятий к важным юбилеям в Ленинграде. Есть основания считать, что, согласно приказу № 566 о повышении роли художественных советов в театрах от 21 августа 1956 г., УК Ленгорисполкома намерено было объединить силы разных организаций города, включая правление ЛО ВТО, в рамках ХС. Логично предположить, что это было сделано, чтобы усилить поддержку при решении таких вопросов, как проведение 40-летнего и 50-летнего юбилеев Октябрьской революции в Ленинграде, мероприятий, связанных с юбилеями известных артистов, и т. д.
Например, в конце 1956 г. обсудили празднование 250-летия Ленинграда, 40-летия Октябрьской революции и проведение Всемирного фестиваля молодежи. В 1964 г. члены ХС УК совместно с правлением ЛО ВТО обсудили вопросы о мероприятиях по подготовке ленинградских драматических, музыкальных и детских театров к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, о мероприятиях, связанных со 100-летием со дня рождения русской актрисы В. Ф. Комиссаржевской. Очевидно, что подготовка репертуара к 50-летнему юбилею Октябрьской революции была более важной, обсуждение заняло гораздо больше времени. 100-летний юбилей актрисы В. Ф. Комиссаржевской упомянули только к концу заседания, объявив о мероприятиях в театре, названном ее именем.
На совещании присутствовали представители ХС ленинградских театров, члены правления ЛО ВТО, ССП и Союза композиторов. Руководство требовало, чтобы Театр оперы и балета им. Кирова, БДТ им. М. Горького и ТЮЗ разработали трехлетний план подготовки репертуара к празднованию 50-летия Октябрьской революции. Выступили представители Театра драмы им. А. С. Пушкина, Театра Комедии, Театра им. В. Ф. Комиссаржевской и Большого театра кукол. Это заседание было похоже на собрание агитпропа, главной темой обсуждения стал 50-летний юбилей Октябрьской революции.
Говоря о репертуарах на 1964–1967 гг., главные режиссеры БДТ им. М. Горького и ТЮЗа – Г. А. Товстоногов и З. Я. Корогодский – единогласно заявили, что планы на три года разработать нереально. «Я не могу таким заведомо количеством располагать, потому что Драматический театр в большей мере зависит от того, что появляется у современных авторов»[207], – отметил Г. А. Товстоногов. З. Я. Корогодский сказал, что если сейчас определить репертуарные планы на трехлетку, то театральные люди сразу поймут, что это формализм. Однако оба главных режиссера немного коснулись того, какие спектакли они собирались поставить. Например, БДТ планировал «Гибель эскадры», «Поднятую целину»[208] и «Солдатами не рождаются», а ТЮЗ – «Один день отдыха Владимира Ильича» и «Возвращение». Л. С. Вивьен указал, что Театр драмы им. А. С. Пушкина в соответствии с революционной темой пытался создать спектакль с образом В. И. Ленина. Представитель Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Ходоренко говорил: «По историко-революционным произведениям могут быть представлены “Юность Маркса”, “Разгром” и произведение “О Ленине”»[209].
А. М. Минчковский (ССП) рассказал о деятельности ленинградских драматургов. Он полагал, что в данный момент (31 октября 1964 г.) у них с театрами не было никаких конфликтов, и отметил: «Мы знаем, что всякие хорошие пьесы найдут себе применение в театре»[210]. По поводу репертуарного плана на 1964–1967 гг. он заявил, что определить работу на столь долгий срок невозможно и процитировал слова Н. П. Акимова, сказанные тем на коллегии Министерства культуры РСФСР. Формирование репертуара на коллегии Министерства культуры РСФСР, составление репертуарного плана Ленинграда превратились со временем в бюрократический формальный акт, так как лишь малая часть из запланированного осуществлялась на театральной сцене[211]. Кроме сотрудников УК, все присутствовавшие на совещании театральные деятели считали планы на три года неосуществимыми. Поэтому им пришлось доложить о том, как театры готовятся к 50-летнему юбилею Октября. Никто не решился выступить однозначно против. Неуверенность ленинградских театров отражена в стенографическом отчете, что можно рассматривать в качестве еще одного доказательства бюрократизации в управлении искусством в советские времена.
Обсуждался также вопрос о смотре творчества молодежи ленинградских театров. Это мероприятие состоялось 16 июня 1964 г. Задачей смотра являлось содействие творческому развитию молодых артистов, режиссеров, художников театров, дирижеров, учебной и политико-воспитательной работе с молодежью, работающей в сфере искусства. В смотре могли участвовать артисты драматических театров в возрасте до 30 лет, артисты балета – до 25 лет, артисты оперы – до 32 лет, режиссеры, художники, дирижеры – до 35 лет[212]. Смотр проводился для того, чтобы выявить творческие способности работников ленинградских театров. На упомянутом заседании планировалось обсудить итоги смотра, отметить успехи и недостатки в работе с молодежью[213], а также распределить награды между участниками.
Так, благодаря стенографическим отчетам о деятельности ХС УК Ленгорисполкома, хранящимся в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга, удалось полностью восстановить схему функционирования ХС в 1953–1964 гг.: изменение его статуса, состава, задачи, вопросы, которые обсуждались, и т. д. Архивные материалы демонстрируют, как УК Ленгорисполкома руководило драматическими театрами города. Есть все основания полагать, что ХС при УК Ленгорисполкома являлся ключевым органом для осуществления театральной цензуры.
Анализ системы цензуры деятельности драматических театров Ленинграда показал, что театральная цензура была более сложной и многоступенчатой, чем проверка печатной продукции. Главное руководство театральной политикой осуществляло УК. При этом внутри самого органа в рассматриваемое время имелась определенная разобщенность во мнениях, которую, впрочем, удалось преодолеть с помощью кадровых перестановок.
Наряду с УК, следует выделить роль ХС и ЛО ВТО, которые занимались идеологическим контролем над репертуаром театров. Если обратиться к спискам членов городского ХС и ЛО ВТО, то можно сделать вывод о том, что творческая интеллигенция активно участвовала в управлении театрами и шла на контакт с органами власти.
Политика «общественных просмотров» как продолжение курса на «сближение искусства с жизнью» не получила поддержки у театральных деятелей и не оказывала решающего влияния на театральную жизнь.
Из главных цензурных проблем в жизни ленинградских театров можно выделить следующие. Во-первых, проверка текстов пьес осуществлялась в репертуарно-редакторском отделе Министерства культуры СССР в Москве, что замедляло постановочную работу театров Северной столицы. Во-вторых, многоуровневая система цензурной проверки усложняла работу коллективов драмтеатров и приводила к несбалансированной репертуарной политике. Например, в репертуаре ленинградских драмтеатров отсутствовала русская классика, а в 1950-х гг. вообще имел место «репертуарный голод» на фоне роста противоречий между местными драматургами и драмтеатрами.
Глава 2. Цензура и творческие поиски Ленинградских театров в годы «оттепели»
2.1. Пролог «оттепели»: споры о состоянии советской драматургии
Чтобы рассмотреть причины и ход оживления театральной жизни в период «оттепели», необходимо обратиться к политике партии послевоенного времени в сфере культуры на фоне начинавшейся холодной войны. В чем-то противостояние с Западом походило на ситуацию 1920–1930-х гг. Советские литература и искусство стали орудиями агитации и оказались на фронте холодной войны. Однако официальная советская позиция в отношении литературы была полна противоречий. С одной стороны, власть стремилась к партийности в произведениях, к тому, чтобы писатели становились «бойцами идеологического фронта». С другой стороны, было необходимо сохранять художественность и заботиться о том, чтобы литература и искусство не отрывались от возросших эстетических требований общества. Развитие послевоенной литературы происходило на фоне борьбы в высших эшелонах власти. Постановления ЦК ВКП(б) 1946–1948 гг. по идеологическим вопросам оказали серьезное влияние на развитие литературы и искусства. В передовой статье «Коммуниста» в 1957 г. отмечалось, что постановления партийного руководства конца 1940-х гг. «в их основном содержании сохраняют и сейчас актуальное значение»[214]. Поэтому, несмотря на то, что эти постановления выходили еще при жизни И. В. Сталина, культ личности которого подвергся критике на XX съезде КПСС, необходимо обратиться к истории издания документов, поскольку их влияние сохранялось и спустя 10 лет после выхода.
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны ЦК ВКП(б) принял ряд постановлений об усилении идеологического контроля в области литературы и искусства, в том числе постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» от 26 августа 1946 г. Отмечалось, что главный недостаток репертуарной политики драматических театров состоит в том, что пьесы советских авторов на современные темы оказались фактически вытесненными с ведущих сцен, в то время как постановок зарубежных драматургов, пропагандировавших «реакционную буржуазную идеологию и мораль», появлялось все больше и больше. Подобная политика объявлялась наиболее грубой политической ошибкой Комитета по делам искусств при Совете министров СССР. В постановлении содержалось требование к этому органу «исключить из репертуара безыдейные и малохудожественные пьесы, постоянно наблюдать за тем, чтобы в театры не проникали ошибочные, пустые и безыдейные, малоценные произведения». ЦК ВКП(б) призывал театры и драматургов обращать внимание на реальную советскую жизнь и указывал на необходимость постановок «в каждом драматическом театре ежегодно не менее 2–3 новых высококачественных в идейном и художественном отношении спектаклей на современные советские темы»[215].
Постановление задавало тон театральной цензуре в послевоенные годы. Развернувшаяся после его выхода кампания через некоторое время привела к «фактическому исключению из репертуара театров почти всей западной классики и всей современной западной драматургии»[216], как отмечается в изданной спустя два десятилетия «Истории советского драматического театра». В 1948–1949 гг. начались гонения на «антипатриотическую группу театральных критиков» из ВТО и Комиссии по драматургии ССП, к которой были причислены такие известные критики, как И. И. Юзовский, А. С. Гурвич, А. М. Борщаговский. Так, Юзовский был обвинен в том, что критиковал образ Нила из пьесы А. М. Горького «Мещане». Гурвича упрекали за якобы предпринятую им «злонамеренную попытку» противопоставить советской драматургии классику, «опорочить» советскую драматургию, пользуясь авторитетом… И. С. Тургенева. Борщаговского разоблачали за то, что он занимался «высмеиванием» пьесы секретаря ССП А. В. Софронова «Московский характер», поставленной в Малом театре[217]. В специальной статье, опубликованной в «Правде» 28 января 1949 г., этих критиков объявляли «зараженными пережитками буржуазной идеологии», усматривали в их деятельности намерение «отравлять здоровую творческую атмосферу советского искусства своим тлетворным духом»[218]. «Правда» призывала советских театральных критиков бороться с подобными проявлениями «эстетско-формалистической критики» новых советских пьес, а фактически советского репертуара вообще, что, по словам партийного официоза, позволяли себе указанные авторы, а также противостоять пропагандируемому ими «безродному космополитизму». (Последнее обвинение свидетельствует о том, что кампания имела антисемитский оттенок.) Вслед за публикацией в «Правде» вышли аналогичные разоблачительные статьи в «Литературной газете» и в газете «Культура и жизнь»[219].
Дело «антипатриотической группы театральных критиков» получило широкий резонанс. Оно фактически стало пусковым механизмом «борьбы с формализмом» в рядах творческой интеллигенции. Многие театральные деятели, в том числе режиссеры, оказались под пристальным цензурным контролем. Так, в Ленинграде в том же 1949 г. обвинили в «формализме» режиссера Н. П. Акимова. В конце концов Акимову пришлось покинуть Театр Комедии.
На волне «дела критиков» из репертуаров советских театров практически полностью исчезли произведения западноевропейских драматургов, как классические, так и современные. Сцены заполнили новые советские пьесы, ориентированные на «раскрытие жизни советского общества в ее непрестанном движении вперед». Но спектакли на современные темы не вызвали интерес у зрительской аудитории, посещаемость драматических театров ухудшилась, причем настолько, что в начале 1950-х годов большинство театров в Советском Союзе были в убытке.
Помимо жесткого идеологического контроля советские драматические театры в послевоенный период испытывали и другую трудность – материальную. После 1917 г. театры были национализированы и дотировались из государственного бюджета, как и другие учреждения культуры. Это позволило дополнить цензурный идеологический контроль над театрами мощным финансовым рычагом воздействия. После Великой Отечественной войны, с возобновлением пропагандистских кампаний, власть, недовольная идеологической направленностью многих театральных коллективов, изменила прежний подход к их содержанию. В начале марта 1948 г. было принято специальное постановление Совета министров СССР «О сокращении государственной дотации театрам и мерах по улучшению их финансовой деятельности». В этом постановлении утверждалось, что «иждивенческая дотационная практика получила широкое распространение и стала тормозить развитие театров, мешать их творческому росту». В целях ликвидации «иждивенческой практики» в работе театров Совет министров постановил прекратить бюджетное финансирование «театров союзного, республиканского и местного подчинения», переведя их «на полную самоокупаемость»[220]. Чтобы существовать в этой новой для них реальности, Совет министров рекомендовал театрам предпринимать меры творческого и административного характера – выпускать больше «новых полноценных в идейном и художественном отношении постановок», что должно было увеличить посещаемость (а значит, и сборы) театров, а также сократить расходы и штаты.
Следует отметить, что призыв увеличить количество новых постановок был трудноисполнимым. В изданном за полтора года до совминовского решения постановлении ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению»[221] уточнялись принципы, по которым должны были формироваться репертуары театров, – диапазон выбора возможных драматургических произведений резко сокращался. Лишившись государственной поддержки, многие театры, особенно периферийные, стали обращаться к руководству страны с просьбами о материальной помощи – но не напрямую, а через свои обкомы ВКП(б).
Так, Ярославский обком 9 октября 1948 г. обратился к секретарю ЦК ВКП(б) М. А. Суслову с ходатайством о «содействии в разрешении ряда вопросов, связанных с работой театров Ярославской области». В этом ходатайстве говорилось, что «театры не имеют возможности производить расходы на оформление новых спектаклей, на подготовку помещений театров к зиме и другие хозяйственные дела». Поэтому обком и облисполком просили Суслова «разрешить за счет местного бюджета покрыть задолженность театров, образовавшуюся к моменту перехода их на бездотационную работу, в сумме 773 тысяч рублей и разрешить профинансировать ремонтные работы, связанные с подготовкой помещений театров к зиме в сумме 150 тысяч рублей»[222]. В ответе, поступившем из ЦК ВКП(б), указывалось, что Комитет по делам искусств при Совете министров РСФСР после ознакомления с положением дел в театрах Ярославской области решил ликвидировать образовавшуюся задолженность театров по зарплате[223].
Партийный комитет Хакасской автономной области 18 ноября 1948 г. сообщал в Москву о бедственном положении Хакасского национального театра: «…с сокращением в 1948 году государственной дотации до 200 тысяч рублей на 9 месяцев театр сократил творческий состав на 9 человек и остальной штат на 10 человек. Это поставило театр в затруднительное положение в отношении роста действующего коллектива театра и подготовки национальных актерских кадров из участников художественной самодеятельности»[224]. Партийное руководство Хакасии прямо указывало на то, что выполнение мартовской рекомендации союзного Совмина сократить штаты театров не только не помогло решить материальные затруднения, но и поставило театр в еще более тяжелое финансовое положение, потому что «в результате малочисленности творческого состава после сокращения штатов театр стал включать в репертуар пьесы с малым количеством исполнителей, большинство из которых не отвечают высоким требованиям советского человека и снижают идейно-художественный уровень репертуара. Сокращение художественно-технического и административного состава снизило качество спектаклей и общую культуру национального театра»[225]. В итоге Комитет по делам искусств при республиканском Совмине был вынужден снова пойти навстречу обращению с места и санкционировал повышение государственной дотации Хакасскому национальному театру на 1949 г., а также удовлетворил просьбы об увеличении штата и уменьшении стоимости билетов.
В 1949 г. с просьбами об увеличении дотаций на работу театров обратилось еще несколько обкомов – Якутский, Тувинский, Горно-Алтайский, Калининградский[226]. В результате власти пришлось фактически отказаться от своего намерения перевести театры на самофинансирование: в конце 1949 – начале 1950 г. практически все материальные проблемы были разрешены за счет дотаций либо из союзного, либо из местного бюджета.
Реализация мер, указанных в постановлениях «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» и «О сокращении государственной дотации театрам и мерах по улучшению их финансовой деятельности», привела к кризису советского театра: скучный и однообразный репертуар, в котором не было сатирических и тем более зарубежных постановок, а также режим жесткой экономии из-за перевода на самофинансирование привели к резкому падению посещаемости театров – часто залы оказывались заполненными менее чем наполовину.
В конце 1940-х гг. для усиления идеологического контроля за театрами была резко повышена роль их административного руководства. Комитет по делам искусств при Совете министров РСФСР 9 февраля 1949 г. принял решение «упразднить должности художественных руководителей, возложив их обязанности на главных режиссеров, подчиненных директорам театров». То есть директора театров стали отныне отвечать не только за выполнение административно-хозяйственных функций, но и за формирование репертуара, чем прежде традиционно занимались художественные руководители.
Ситуация в советском театральном искусстве, как и в литературе, неожиданно изменилась после присуждения Сталинских премий. Участник обсуждения кандидатур на соискание Сталинских премий К. М. Симонов записал 26 февраля 1952 г. высказывание И. В. Сталина: «Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины. У нас немало еще зла. Немало недостатков»[227]. Эти слова дали возможность обсудить состояние советской литературы и искусства, выявить недостатки. В позднесталинское время была популярна «теория бесконфликтности»[228]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 41. М., 1981. Предисловие. С. XXX.
2
Там же. С. 304–305.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 41. М., 1981. С. 337.
4
Ричардс О. Понятие культуры в работах Малиновского // Вестник культурологии. 2007. № 1. С. 151.
5
Zhang Jianhua. A Study of the Transformation of the Soviet Intellectual Community: 1917–1936. Beijing, 2012.
6
Roth-Ey K. Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the Media Empire That Lost the Cultural Cold War. Ithaca, New York, 2011.
7
Программа Коммунистической партии Советского Союза // Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961. С. 419.
8
Цеткин К. О Ленине: сборник статей и воспоминаний. М., 1933. С. 33.
9
Черкасов Н. К. Доклад на заседании в Доме актера от 16 октября 1957 г. // Информационные материалы о работе Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества (специальный выпуск). Л., 1958. С. 9.
10
История советского драматического театра: в 6 т. Т. 1. М., 1966. С. 83.
11
Луначарский А. В. Статьи о театре и драматургии. М.; Л., 1938. С. 21.
12
Назаров Б. А., Гриднева О. В. К вопросу об отставании драматургии и театра // Вопросы философии. 1956. № 5. С. 85–94.
13
Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1946–1953. М., 1999. С. 4.
14
Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. М., 1990. С. 93.
15
См., например: Речь товарища И. В. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г. // Большевик. 1946. № 3. С. 1–11.
16
Имеются в виду постановления ЦК ВКП(б): «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 г., «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» от 26 августа 1946 г., «О кинофильме “Большая жизнь”» от 4 сентября 1946 г. и «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели» от 10 февраля 1948 г.
17
Полный текст решения см.: Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 / под ред. А. Н. Яковлева; сост. А. Н. Артизов, О. В. Наумов. М., 1999. С. 591–596.
18
История советского драматического театра: в 6 т. Т. 5. М., 1969. С. 15.
19
История советского драматического театра: в 6 т. Т. 5. М., 1969. С. 16.
20
Преодолеть отставание драматургии // Правда. 7 апреля 1952.
21
Материалы внеочередного XXI съезда КПСС. М., 1959. С. 52–53.
22
Программа Коммунистической партии Советского Союза // Материалы XXII съезда КПСС. С. 419.
23
Там же.
24
Там же. С. 420.
25
Измозик В. С. «Черные кабинеты»: история российской перлюстрации. XVIII – начало XX века. М., 2015. С. 562–563.
26
Чжуан Юй. Театральная цензура в Ленинграде. 1953–1964 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2017. http://www.utronews.ru/news/culture/000145492647680/ (дата обращения: 20.03.2019).
27
И. Е. Левченко рассматривает цензуру в ракурсе социологии. См.: Левченко И. Е. Цензура как общественное явление: автореф. дис. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 1995; Он же. Цензура как социокультурный феномен // Социологические исследования. 1996. № 8. С. 87–90; Он же. Парадоксы цензуры // Цензура в России: история и современность: сб. науч. тр. Вып. 2. СПб., 2005. См. также: Цензура как социокультурный феномен: сб. науч. докл. Саратов, 2007; Солодовников М. В. Цензура как механизм социального контроля: социологический анализ: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2011.