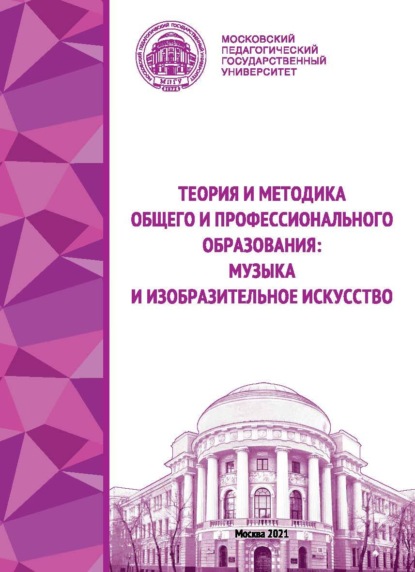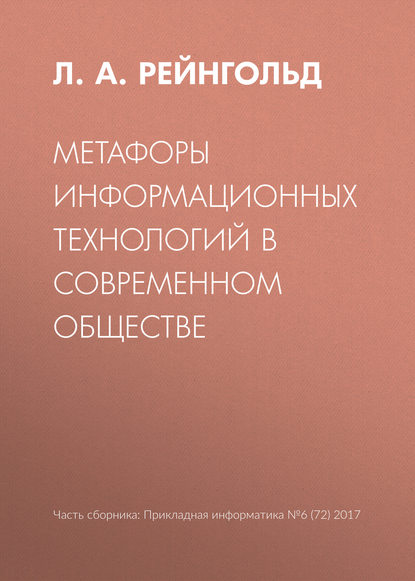Упражнение: зеркало

Лиле сорок. Двадцать из них она служит актрисой в провинциальном театре. И сейчас Лиля в глубоком кризисе: ей больше не дают ролей, она развелась с мужем, у нее нет денег на жизнь, в нее уже вонзило когти старение и она больше не может смотреть в зеркала. Лиля потеряла себя.
В поисках выхода Лиля вспоминает актрису Елену. Когда-то именно она влюбила Лилю в театр, стала для нее лучшей актрисой, идеалом, на который она хотела походить.
В попытках узнать что-то о ней, Лиля переписывается с режиссером, который работал вместе с Еленой, подозревает, что та покончила с собой, сравнивает свой актерский путь с ее путем, видит в ней своего двойника, зацикливается на ней и заболевает.
Как выйти из кризиса стареющей женщине и невостребованной актрисе? В чем спасение?
Телесный, рефлексивный и поэтичный текст о потере, поиске и принятии себя.