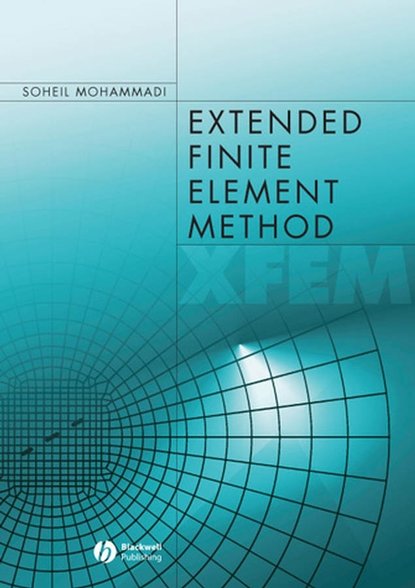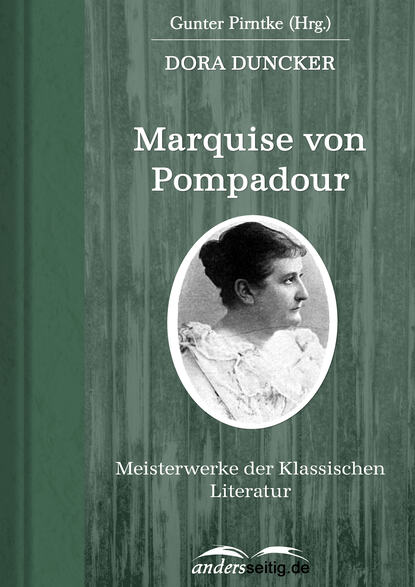- -
- 100%
- +

Часть 1
Глава 1
Санкт-Петербург, ноябрь 1752
Огненная вспышка прожгла покрывало темноты, накрывшее величественный город Петра. Тугая волна взрыва выбила стекла невысокого кирпичного здания, выстроенного на второй линии Васильевского острова, неподалеку от Невы. Звеня и бросая блики отраженных луны и пламени, брызги стекла оросили улицу, спугнули случайных прохожих. Пара деревенских на вид мужиков в драных армяках, для отдохновения души устроивших хмельной вояж по ночному острову, бросились наутек, истошно подвывая:
– Як колдун зело лютый! Ай Федька бегом отседа пока животы не поклали!
Второй согласно подвывал что-то, стараясь не поскользнуться на свежем льду, глазурью покрывшем мостовые ноябрьской столицы.
Надругавшись над покоем спящего города, взрыв почти сразу утих. Морозный ветер хлынул внутрь здания, сдувая танцующие языки огня, весело заплясавшие на остатках деревянных рам.
«Профессор химии, – писал Михаил Васильевич Ломоносов, – должен жить поблизости от того места, где будут проводиться химические операции. Так как последние часто длятся целые дни, то необходимо и чтобы дом его соединен с химической лабораторией был».
Михаил Васильевич вынырнул из-за железного короба, где предусмотрительно укрылся от случившейся вскоре оказии. Стуча каблуками по осколкам, издававшим жалобный хруст, ученый бросился к письменному столу. К величайшему облегчению три свитка не пострадали.
Сделанные из прочной кожи они, казалось, слегка светились в сумраке лаборатории. Пульсирующее их мерцание гипнотизировало и всякий, завидев шероховатую поверхность, отчетливо ощутил бы, как руки сами тянутся потрогать, развернуть, узнать, какие тайные знания там затаились.
Михаил Васильевич с облегчением выдохнул и опустился на стул, чудом не опрокинутый взрывом на холодный каменный пол. Прямо напротив стола равнодушно гудела печь, тепло от которой грело во время долгих ночных экспериментов. Ветер надвигающейся зимы набросился и жалил ледяными укусами – Ломоносов зябко поежился.
– Чаво стряслося-то, барин? Живы али как? – в проеме двери, исцарапанной осколками разлетевшегося стекла, показалось бородатое лицо, с лихим блеском и нотками укоризны глядящее на безумства местного колдуна. Давно, впрочем, к оным привыкшее.
– Жив, жив, – ответствовал Ломоносов, – ты, Ваня, лучше стеклом займись – ночи больно уж суровы стали – с воды круто дует. Да кладовую поспешно разгрузи – в ней стены кирпичные – там и продолжу. Никого, авось, не задену.
– Славься, Боже, все живы. Вы барин, все суетитесь, да суетитесь, отдохнули б что ль…
Ломоносов смерил приписанного к лаборатории слугу строгим взглядом. Под ледяным взором вспыльчивого господина Иван немедленно стушевался и потупил взор, глядя на усталые валенки, носимые им большую часть года. Глядя на его притворное раскаяние, Михаил Васильевич смягчился.
– Ленивый человек, Ваня, в бесчестном покое с неподвижною болотною водою сходен. А она, да будет тебе известно, кроме смраду да презренных гадин, ничего произвести не способна!
– Угу, – гулко согласился Иван, – а это, про кладовую то. Это мы поняли! Это мы быстро-с! – мужик развернулся и бросился хлопотать, раздавая указания паре вбежавших следом, также разбуженных взрывом служителей. У профессора химии таковых в сей год было три – а больше и не надобно.
Протирая сонные глаза чумазыми руками, мужики похватали веники – лаборатория вспорхнула суетой. Дыры в окне были наспех закрыты досками, поверх которых набросили старое, набитое соломой и каким-то ткацким мусором одеяло, невесть откуда притащенное. Приткнули щели старыми тряпками. Сразу стало теплее, сквозняки улеглись.
Михаил Васильевич удовлетворенно цокнул, развернулся на каблуках и, бормоча себе под нос какие-то расчеты, обвел комнату рукой, словно чертя невидимую окружность.
– Бор? Может, окись бора? Да нет – не то! – ученый возбужденно расхаживал по лаборатории не замечая ничего вокруг, погруженный в размышления. Крепкие каблуки давили стекло, белым порошком растирая его на каменном полу.
Придворный алхимик императрицы Елизаветы Петровны, Михаил Васильевич совсем не гордился этим, почти насильно врученным ему титулом. Он не любил бывать при дворе. Неизбежные ужимки, интриги, подхалимство и лебезящие языки, на все готовые, лишь бы хоть на миг согреться в лучах тепла Ее Величества, побыть фаворитами. Нет, этого Ломоносов не терпел – право же, тошно!
За эту невольную гордость двор платил Михаилу Васильевичу взаимностью – на теплоту и поддержку он рассчитывать не мог. Да что там – бывало, даже малейшие его просьбы к казне о выделении средств холодно игнорировались. Что же до немцев в Академии – они и подавно вставляли палки в колеса научной мысли гениального, но слишком уж вызывающего своей загадочностью русского мужика. Пришедшего невесть откуда, с дремучего Поморья, просвещать молодую империю взялся… а кто таков то будет? Непонятно!
– Так, а ежели…? Да-да, вот это можно попробовать! – Ломоносов бросился к печи, в горниле которой были расставлены тигли1 с пузырящимися, расплавленными металлами, окисями и один Бог ведает чем еще. Поддев один такой кочергой, Михаил Васильевич вылил содержимое в упорное к температурам корыто с жарко мерцающей рыжеватой, густой жидкостью – расплавом стекла. Глухо булькнуло, словно стекло знакомилось с гостями и, повздорив, зашипело, вздымаясь пузырями. В точности как оно бывает у людей!
Ломоносов удовлетворенно кивал, продолжая бормотать что-то себе под нос. Пара ловких движений и в корыто вылилось содержимое еще одного тигля. Стекло вновь зашипело. Рыжая, раскаленная его поверхность пошла волнами, то тут, то там сверкая серебристым отливом. Какое-то время ученый увлеченно выдувал из получившейся смеси шар, стараясь придать его стенкам правильную форму и избежать, насколько возможно, пустот.
Снова стало жарко. Под шерстяным камзолом, поверх которого Ломоносов набросил привычный, прожженный в нескольких местах халат, заструился пот.
– Там, барин, милость ее Елизавета Андреевна, жена-с истребовать Вас очень уж велит! Испужались… Уточнить велят, чтобы, так сказать, собственными глазами в Вашем благополучии то полном убедиться-с…
Зная, что встречи все равно не избежать и проклиная день, когда решил выстроить лабораторию непременно рядом с домом, Ломоносов коротко кивнул Ивану. Покидать лабораторию, успокаивать родных, слушать все эти искренние, но такие долгие причитания… А кто закончит эксперимент? В тиглях бурлило. Лопались пузыри.
Взволнованная супруга, метая искры праведного гнева, с немецким акцентом отчитывала двух служивых, не пускавших даму внутрь лаборатории.
– Никак невозможно, сударыня, помилуйте! Не велено, совсем нельзя! – отбиваясь от взволнованной женщины твердили сторожа.
– Михаэль, Михаэль! – воскликнула Елизавета Андреевна с облегчением, едва за их спинами показался силуэт Михаила Васильевича. Глаза Елизаветы Андреевны светились укоризной.
Наспех накинув меховую шубу поверх ночной рубашки, она стояла в сопровождении приосанившегося домашнего слуги. Весь ее облик наглядно сообщал Ломоносову – своими фокусами ты сведешь меня в могилу, ну за что!?
– Порядок, Лиза, полный порядок! Домой, иди скорее домой! Я уже совсем близок, сейчас не могу, не могу, клянусь тебе! – ученый попытался выпроводить жену, чтобы поскорее вернуться к работе, пока смеси не успели затвердеть, а реакция остановиться. Это оказалось совсем не просто – хваткая немка вцепилась и не позволяла мужу покинуть полуночную аудиенцию не выслушав все ценные советы, предостережения и пожелания, вихрем вылетавшие из напуганной женской головы.
Несколько минут бурных объяснений ушли на восстановление порядка и, едва отправив Елизавету Андреевну домой, Ломоносов проворно забежал обратно в лабораторию, хлопнув при входе окованной железными полосами дверью – для прочности.
– Ванька, готово? Ну как там? Уже разобрали склад, как я велел?
– Дык это, само собой, барин, все как приказывали-с – Иван, на пару с дюжим мужиком в зипуне, вытаскивали какой-то увесистый мешок, оставляя на каменном полу заметные следы. Что-то пролилось, ну да и Бог с ним. Кажись вот все и вытащили.
– Да какой я тебе барин то, Ваня… – задумчиво пробормотал ученый. – А впрочем, да это все равно – зови, как знаешь, – Михаил Васильевич удовлетворенно кивнул.
***
– Когда стекло подвергается равномерному давлению со всех сторон, а именно это там сейчас и происходит, расстояние между атомами в нем быстро сокращается и они… ну как бы сближаются. Понимаешь?
Иван округлил глаза и согласно замычал. Было страшно – сейчас ведь как рванет…
– Структура его внутренняя изменяется, придавая прочность такую, что и огонь любой держать способно, да и того мало – от давления изнутри не разрывается.
– Страх-то какой! А зачем это-ть все, барин? В акадимиях за такие штуки хитрые денег много плотют?
– Если бы… – усмехнулся Михаил Васильевич. – Это, Ваня, для потомков. Мало ли где и на что оно им сгодится..? Вещь в своем роде уникальная! Я ж тебе говорю – любые температуры, любое давление…
– Так-то оно так, барин – согласился Иван, – а ну ежели как в прошлый раз шибанет?
За стеной зашипело. Нагнетающе дрожал воздух. Профессор слышал испуганное сопение Ивана. Мгновения, казалось, сливались в единое тягучее полотно напряженного ожидания – выдержит или нет?
– Там Ваня сейчас газ нагревается – я внутрь его много закачал. А ты вот что мне скажи— происходит то с ним что? Ежели температуры высокие?
– Б-у-у-х? – Иван бесхитростно улыбнулся, обнажая зияющую щель на месте переднего зуба – кабацкие приключения, к наукам непричастные.
– Сам ты бух! Горячие газы расширяются. А стекло их удерживает! Газы в ответ ну, знаешь, сердятся – а давление на стенки оттого растет, понимаешь?
На роль помощника великого ученого Иван подходил скверно. В качестве же собеседника о сложных материях физической или иной какой науки не годился и вовсе. Ну так и что? Не в тишине же ждать! Человеку словом обмолвиться приятно, разъяснить… А уж понимай или нет – это дело десятое.
Стало тихо. Иван громко сопел, готовый к любому повороту событий. Ожидал, конечно, худшего – у барина вечно так. Что ни взрывается, то раскалывается. Что ни раскалывается – непременно прольется.
– Посмотрю, штоль?
– Не сметь! – Ломоносов ухватил повернувшегося было к двери Ивана за рукав армяка, удерживая безрассудного смельчака. – Взорвется – осколками тебя насквозь изрешетит, дурень! Тут и помрешь!
Резкий свист пронзил тишину и оба подпрыгнули от неожиданности, озираясь и прислушиваясь. Звук вышел жутковатый, словно ребенок протяжно заплакал.
– Никогда прежде так долго не выдерживало – какой удивительный материал получился! – восхищенно прислушивался Михаил Васильевич.
Ничего. Тишина. Через несколько минут стало ясно – стекло выдержало. Возбужденный, охваченный радостью новой победы, Ломоносов бросился в соседнюю комнату и с размаху сел за писчий стол. Звякнула сотня стеклянных предметов, покачиваясь и едва не падая с полок.
Схватив перо, Михаил Васильевич убористым почерком, нетерпеливо, пока еще свежо в голове, записывал все детали нового открытия. Желтоватой бумаге, хрустящей под его пером поверялись с трудом и смертельным риском вырванные у мироздания тайны. Плоды многочисленных ночных изысканий.
«Форма шаровидная, без пустот, состав надлежит испробовать следующий…» – писал ученый.
«К расплаву добавить три окиси, а в качестве катализатора…» – рука порхала над бумагой.
«Сойдет за яйцо, что алхимики европейские на свой манер философским именуют. Однако же, оное и на наш манер русский может в делах разных пригодиться, где температуры высокие с давлением огромным место иметь могут и управляться с ними как-то надобно».
Когда ученый закончил – за окном уже светало. Первые лучи солнца тусклыми тенями ложились на пол, тут и там пробиваясь сквозь дыры в одеяле, нелепо наброшенном поверх забитого досками оконного проема. На длинной полке, прибитой сразу над массивным дубовым столом, расставлены были стеклянные фигурки. Большинство из великого их здесь множества выдувал лично Михаил Васильевич. Красные, словно рубины – к которым в сплав золото добавлено было, зеленые, лазурные, бордовые и цвета штормового моря – разные окиси и составы придавали стеклу и конечным из оного изделиям удивительные свойства и любой окрас.
– Вовсе и не хуже, чем мы у римлян находим, – профессор удовлетворенно провел рукой по мозаике, блеснувшей в рассветных лучах, – а может даже чуточку лучше – Ломоносов улыбнулся.
Натруженные пальцы скользнули по гладкой, отполированной поверхности смальты. Лишенный пор материал призван был послужить долго, на века сохраняя новизну и блеск всякой мозаичной картины, что из него сложат умельцы и творцы. Сваренная смальта очаровывала красочной глубиной и филигранно пригнанные один к одному края ее создавали эффект цельного, неразрывного образа.
Словно живой, на усталого Ломоносова взирал отец императрицы Елизаветы Петровны. Вздернутые усы, прямой длинный нос, загадочная, будто слегка насмешливая улыбка – Петр Великий смотрел куда-то сквозь первого русского академика, словно и восхищаясь своим подданым и веля голове его светлой не кружиться от успехов чересчур. Не останавливаться в неустанных трудах на пользу молодой отчизне. Много еще испытаний предстоит!
Искренне восхищаясь самодержцем, сумевшим могучим рывком выдернуть Россию из болота многовековой архаики, Ломоносов задумал было украсить мозаиками множество стен Петропавловской крепости. Мысль разбавить ее мрачную, по-военному скупую атмосферу хотя бы и такой небольшой толикой благородных искусств давно крутилась на уме. Изыскать бы только средств. Убедить в полезности сего проекта дворцовых сибаритов. Куда там… не живут же они там! Оно им зачем будет важно?
Закончив описание, Михаил Васильевич обернулся на свитки, лежавшие на другом конце стола. Мерное свечение, так часто замечаемое им по ночам сейчас, казалось, пропало. Отодвинув стул Ломоносов встал, с хрустом усталых позвонков выпрямился во весь свой статный рост и шагнул к свиткам, ухватив лежавший посередке.
Беззвучно развернувшись, словно в ответ тот полыхнул гущей непонятных значков – пиктограмм, испещривших древнюю, ссохшуюся от времени поверхность кожи. Свиток в руках был белым, цвета молочной пенки. Рядом лежали еще два – черный и алый. Тут и там виделся почерк Михаила Васильевича. Некоторые знаки объединяясь в группы.
Положив развернутый пергамент на стол, ученый потянулся за пером, небрежно макнул в чернильницу кончик и обвел новую группу символов, поставил рядом увесистую галку. На миг показалось, что свиток вздрогнул, а пиктограммы вспыхнули, словно приняли ответ. Наверное, просто луч солнца скользнул по поверхности.
Устало бросив перо, профессор выпрямился и отпустил свиток. Медленно, словно нехотя, он сворачивался, принимая привычную форму. Лишь новая галка, блеском свежих чернил выделялась на желтоватом полотне, словно чернильная птица расправила крылья и вот-вот готова вспорхнуть ввысь.
Михаил Васильевич взял обитый кожей плотный тубус и аккуратно вставил все три свитка в подходящие им отверстия – пазы, выбитые внутри легкого, но очень прочного чехла, с которым он предпочитал не расставаться. Далеко не единожды уже его пытались выкрасть. Да чего уж там – впервые, еще в Германии, во Фрайбурге, когда совсем молодой, но уже умевший постоять за себя, Ломоносов обнаружил в своей спальне профессора горного дела, места которому там совершенно не было.
Какой разразился скандал! Вмиг утративший все благородство Михаила Васильевича, даровитого выпускника славяно-греко-латинской академии, перед застигнутым врасплох немецким профессором сжимал пудовые кулаки Михайло – русский мужик с сурового русского Севера – с Поморья.
Отколошмаченного, протрясенного и униженного, профессора выносили с поля брани два сторожа, поливая Михайло отборными немецкими ругательствами, но бессильные ему что-либо предъявить. Устав не предполагал профессорам, пусть даже и горного дела, проникать в спальни студентов, позоря и себя и академию и, что куда страшнее, строгие лютеранские нравы! Это же надо, какой бесславный конфуз!
Сейчас, много лет спустя, охотники до тайн Ломоносова стали намного опаснее. Могущественный Шумахер со всей иностранной кликой наперевес. В Академии ученые мужи конкурировали так лихо, словно не тайны природы изучать здесь собрались, а лишь свою собственную персону самодержцам подороже предложить. Поговаривали, что и кто-то из дворцовых внимание проявлять удумал, приглядывать за профессором. Нужно держаться начеку! Втираясь к царям да царицам в расположение, даже и вчерашний холоп, ежели в фавориты пролезет, великое могущество обрести может. Многое натворить способен делается. Да оно впрочем ведь и не на одной Руси так – слаб человек, даже ежели и Государь миропомазанный, на Царствие благословленный…
Много лет Михаил Васильевич беспокоился о сохранности таинственных свитков, вот только совсем не потому, что крылось в них что-нибудь до того ценное, за чем охотиться бы, хоть жаждущим богатства, хоть любопытным до вселенских тайн стоило. Едва ли кто-то во всей молодой империи и оказался бы способен понять их содержание.
Ну уж нет! Не здесь и не сейчас. Дело было совсем в другом. Любой ценой Ломоносову нужно было довести назначенную ему свыше работу до конца. Расшифровать красный свиток. Расшифровать их все! Прочесть то, что немыслимо сложным шифром закодировали в формулу, обещавшую раскрыть секрет природы и превращения всех веществ. Что там откроется? К чему приведет?
О том лишь сумевший не свернуть, не сбиться и пройти весь путь до конца узнает. Если таковой во всем свете вообще отыщется. Не каждой ведь эпохе такой дан…
Глава 2
Санкт-Петербург, август 1884
– Сашка, беги сюда! – махал рукой Вильгельм Эренфрид Пель, для удобства и на русский манер нарекший сам себя Василием Васильевичем – так и записали!
На хрипловатый, добродушный голос обернулся русоволосый мальчик лет девяти, одетый в аккуратное, хотя местами уже изрядно протершееся пальто, из-под которого виднелись загнутые (на вырост) брюки и шерстяная жилетка, словно Сашка был ростом еще маленьким, но в остальном уже хотел казаться взрослым.
– Сейчас, Василь Василич! Я забегу! – звонкий голос заставил обернуться булочника, вытиравшего испачканные мукой руки о свой фартук и извозчика на проезжавшей мимо телеге. Ломовая лошадь его устало пыхтела, цокая давно просившими новых подков копытами по пыльной булыжной мостовой.
Окружающие приветственно улыбнулись – Василия Васильевича тут знали все. Преуспевающий фармацевт, вот уже почти пол века минуло, как он выкупил дом номер шестнадцать, что на седьмой линии Васильевского острова. С немецкой обстоятельностью организовал здесь скромную аптеку, стал исправно работать, а она возьми да разрастись в целое производство, с лабораторией в довесок.
Не жалея средств закупив на исконной своей родине оборудование и реагенты, профессор Пель объявил священную войну поддельным лекарствам, затопившим Петербург стараниями тысяч шарлатанов и случайных проходимцев. Не было отбоя от желавших легкой наживы, а лекарства стоили дорого, население темное, подделать не велика мудрость. Может ли скверный человек перед соблазном быстрых барышей устоять?
Педантичность, упорный труд и подчеркнутая вера в невозможное давали свои плоды – безвестный прежде доктор Пель смог объединить всех аптекарей громадной столицы в гильдию, ввести методы контроля сырья и чистоты, отстаивая честь своей профессии. Дела фармацевтов и без того издавна были окружены ореолом всевозможных подозрений. Далеко не всегда светлых.
Дом семейства Василия Васильевича на седьмой линии, лихо разрастаясь и вширь и ввысь, послужил даже в некотором роде таможней, сквозь строгую линзу которой проходили все привезенные в столицу ингредиенты для будущих лекарств. Контракты с нечистоплотными поставщиками безжалостно рвались, мошенники сажались в казематы – здесь царская канцелярия всегда принимала сторону обрусевшего немецкого доктора, зная и уважая его за безукоризненную честность.
Невозможное предпочло случиться – сын простого сапожника, Василий Васильевич Пель стал Поставщиком Двора Его Императорского Величества Александра III, получив от государя дворянский титул и даже право иметь полноценный герб! Передавать его по наследству. Деньги заслуженным потоком хлынули к семье Пелей, так что уже на излете 1875 года Василий Васильевич с облегчением передал бразды правления семейным делом старшему сыну – Александру.
– Дерзай, мол, на рельсы встали. Разгоняй дальше этот поезд сам – вези аптекарское дело столицы в светлое будущее.
Пока одни возвышались – иные падали. Отец Сашки – граф Владимир Сергеевич Толстой, был дальним родственником Льва Толстого, которого он был порядком младше. Хитросплетением судьбы ветви их рода давно разделились, так что они не общались и даже случись такое однажды – не признали бы друг друга в лицо на улице.
Держа нос по ветру, вдохновившись веяниями эпохи, Владимир Сергеевич заложил поместье в земельном банке, выручив кругленькую сумму ассигнациями. Рассчитывая научить доставшиеся от предков деньги работать на новый лад, с азартом игрока он умножал в голове проценты, подсчитывая будущие прибыли. Конечно, цифры выходили баснословные!
Наняв комнаты в прекрасном доходном доме на Литейном, граф перевез семью, чтобы с головой окунуться в омут деловой жизни Петербурга. Накупил себе шелковых и бархатных фраков. Жене – элегантных платьев. Семья Толстых зажила на широкую ногу. Фланировать вдоль широких проспектов столицы, плясать на лаковых паркетах меблированных гостиных то у тех, то у этих, оказалось безумно занимательно!
Немного расслабившись и нежась в лучах первых удач (капали первые дивиденды) Владимир Сергеевич отвлекся на азартные игры, завел любовницу и даже стал помышлять о покупке нового экипажа, чтобы не стыдно было выезжать в свет. Все-таки Петербург – блестящая столица!
Высокие проценты – высокие риски. Несколько неудачных вложений в иностранные предприятия поставили семью на грань финансовой катастрофы. Карта не ложилась. Кредиторы не входили в положение, а деньги стремительно таяли. Владимир Сергеевич продал все, что оставалось, попытался спасти ситуацию вложившись в куда более надежные заводы на Урале, но снова не повезло.
Разоренный и опозоренный, граф запил, перессорился со всей родней, предпочитавшей с тех пор не замечать его и прятать все свидетельства столь неудачного родства, похоронил умершую от туберкулеза жену и отправил Сашку, единственного своего выжившего ребенка, к старому приятелю, на Васильевский. Собрав все, что смог утаить от кредиторов – надобно же уплатить за воспитание сына – Владимир Сергеевич попрощался с мало что понимавшим Сашкой, выпил, оделся в лучший фрак и застрелился. Такое не было редкостью в ту эпоху перемен. Старые правила ломались, а новые еще не были ясны. В мире хищных дельцов – класса невиданного прежде в России —не было места ни титулам, ни заслугам родовитых предков. Непонятная новая игра для многих оказалась жестокой рулеткой.
С семи лет Сашка жил у Петра Григорьевича, неизменно называя его дядей Петром и не получая от него особенного внимания. По доброте душевной, да по личной просьбе старого друга, оставившего послание в предсмертной записке, Петр Григорьевич не отдавал Сашку ни на военные, ни на прочие попечения. Однако, всерьез возиться с чужим отпрыском было уж как-то чересчур.
Куда больше времени юный, скромно одетый граф проводил в кругу семьи Пелей, где детей было много – целых восемь – дела шли замечательно и лишний рот, вкупе с парой любопытных глаз, совершенно никого не смущал. Устранившись от дел еще полным жизненных сил, Василий Васильевич занялся тем, для чего, как считал, и был создан – поиском святого Грааля множества ученых от начала веков – алхимией.
– Ты заходи, Лена чай сготовит, попьем. Продолжим сегодня заниматься? – глаза старика, блестели вдохновляющим светом.
Сашка был единственным в его окружении, кто всерьез воспринимал увлечения Василия Васильевича, не почитая их за средневековые бредни и баловство праздного аптекаря. Юный граф с готовностью вызвался учиться, едва не подпрыгивая от нетерпения. Старый Пель во многом заменил отца и хотя такого же родного тепла, наверное, получить от стороннего человека никак нельзя – Василий Васильевич не без успехов старался прививать Сашке любознательность, дисциплину и веру в свои силы, принимая мальчика как члена собственной семьи.