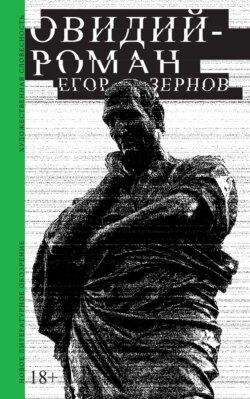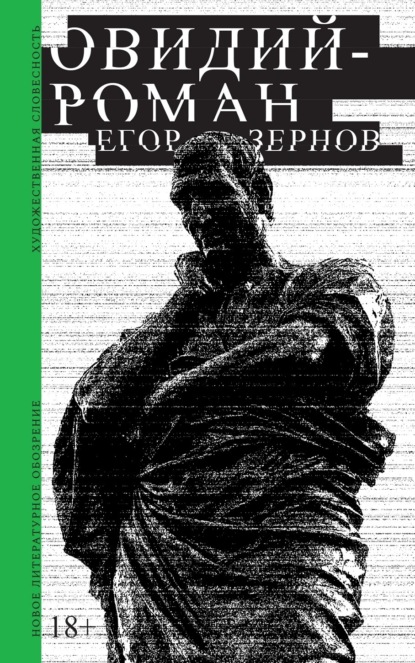© Е. Зернов, 2025
© Н. Алпатова, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Her. – Heroides (Героиды)
Am. – Amores (Любовные элегии)
Ars – Ars Amatoria (Наука любви)
Met. – Metamorphoses (Метаморфозы)
Med. – Medea (Медея)
Trist. – Tristia (Скорбные элегии)
Pont. – Epistulae ex Ponto (Письма с Понта)
Fast. – Fasti (Фасты)
Her. 9
Прием, мы смотрим на одну новостную сводку – может, чуть различаясь. Может, я вовлечена в то, что делают твои руки уже несколько месяцев, больше, чем твои руки, больше, чем ты. Прием, мы смотрим на огонь комбината, он перетекает в черный дым над парком, и всегда кажется, что там что-то не так, будто горит не то, что нужно. Хоть это и был очередной раз, а именно: очередная вспышка огня, очередная черная лужа в полнеба на фоне постоянного запаха, кажется, серы, мы не могли пойти дальше. Мы сели на скамейку перед обрывом, внизу которого длился только лес, неширокие тропы, гаражи, к которым сложно подъехать (поэтому в них только пьют), храм и святой источник, а рядом с ним постоянно бродят, идут куда-то молодые националисты из небогатых семей. Они идут в поисках нефоров из других небогатых семей – несовершеннолетних мальчиков и девочек с бутылками «Виноградного дня» в рюкзаках, его продают кому угодно в ларьке недалеко от парка, он сильно пахнет спиртом и дешевыми ароматизаторами. А мы сели на скамейку перед обрывом, и взгляд упирался в завод, единственную причину существования этого города. Когда в детстве от деда я слышала слово «сталевар», я представляла огромную кастрюлю с крышкой в виде трубы, в которой варят сталь, и она скоро превращается в черный дым, который заволакивал небо, пока мы сидели перед обрывом. Перевернутый быт металлурга: я ложилась спать, а дед одевался в рабочую одежду, чтобы дышать жаром, смотреть неустанный огонь, иногда он видел аварии – например, опрокинутый чан и голос, подобный не шуму многих вод, но протяженному треску болгарки, который скоро перекатывался в круговорот документов, бюрократическое оформление несчастного случая – хорошо, что для катастрофы уже подготовлен язык. Дым был настолько настоящим и заметным, что казался прифотошопленным к синему фону летнего города, он сдавливал пространство своим объемным кожаным телом, на теле торчали жирные жилы, воткнешь в него иглу, и на постройки из резко расширяющейся дыры выльется густая смола. Так казалось, пока мы сидели перед обрывом, и я думала о тревоге и радости оттого, что видеть этот ландшафт – теперь, возможно, самое страшное. На твоих глазах была только радость и все, только кипящая смола, из полной чаши города собранная в твои зрачки, существа с вертикальными разрезами ртов, расцарапанное лицо луны, ножи и грозы, железные жвалы и длинные фаллические шеи с крепкими зубастыми наконечниками, двойное солнце, желающее слиться воедино, пакеты с животным мясом, троящиеся тела, бесконечный металл, перевариваемый собственным сиянием. Я сидела перед обрывом, ты отсутствовал, я говорила, а ты молчал, я целую твое лицо, как последнее слово, прощальная речь, я кладу факт твоей гибели – конечно, героической, какой еще – на твое тело, как на стол. Прием, это я, девочка – твоя, как земля и как знамя. Ты из могилы размахиваешь моим именем, пока твое висит на баннерах над загруженным шоссе, в общественном транспорте. Таксист, утомленный работой, смотрит на твой ясный лик под шлемом, дежурно размышляя, как и каждый увидевший, жив ли ты или нет. Ты кот в мешке, помещаешься между списком продуктов и вечерним просмотром кино. Когда-нибудь ты застрянешь в вагоне метро на бесконечной кольцевой, напротив тебя будет висеть плакат с моим лицом: вытаращенные глаза, пена у рта, полное имя рядом, и тебе никак не удастся покинуть поезд. Но ты захочешь остаться, Геракл.
Am. 1.1
Я, Публий Овидий Назон, человек, рожденный завтра, поэт, выбравший писать любовно, наверное, нащупавший эту линию ускользания, временной период, пазуху, из которой такое письмо возможно, по крайней мере, из которой речь о таком письме допустима, приступал к прозе несколько раз. Необходимо было найти точку сопротивления. Необходима была машина. Например, Гомер. Гомер-машина. Совершенная пустота и мэнин-аэйде-теа, многократно отточенные и уточненные сухими губами рапсодов. Что-то бесконечно удаленное, то есть сплошной звук, для которого можно придумать приблизительное значение, инопланетную этимологию, как «человечный» или «подобный». Хомерос то есть. Когда у меня спросили, почему нам, светловолосым студентам, так нравится писать об Античности, я не нашел ответа. Я не нашла, по крайней мере, внятного ответа. Мы сидели на кухне, курили сигареты со странной кнопкой, простыни, вывешенные на балконе, открытом для дыма, закупоривали помещение, и влага, смешанная с горением табака, доводила до тошноты, легкие будто увлажнялись и высыхали одновременно. Это обстоятельство точно накаливало важность вопроса. Мне нужно было сформулировать ответ, дым укалывал виски. Не помню, что я ответил: было что-то про сжатие этой сферы до краев. На краях что-то, что я знаю о любви. Публий Овидий Назон начинает свою книгу с поэтологии, он пишет: «Сначала я хотел писать гекзаметром, и шум сражения должен был стать текстом, но Купидон своровал по стопе из каждой второй строки, и элегический дистих напомнил мне о настоящем импульсе моего письма. По-немецки это LIEBE». Но потом проникает militat omnis amans (то есть каждый, кто любит, воюет). Овидия брат – Козлов, прибывший на котлован пассажиром в автомобиле. Сегодня он ликвидировал как чувство свою любовь к одной даме. Райнер Вернер Фассбиндер тем временем снимает себя в (возможно) своем интерьере, это фильм о терроре и матери, о личном и политическом. Германия осенью. Ночью холодно, и Райнер Вернер встает с кровати, совершенно обнаженный. Он подходит к телефону, садится на пол, спина его прижата к стене. Говорит (нервно): Баадер, Энслин, Распе мертвы. Райнер Вернер говорит это, не верит в это, трогает свое тело, как трогают сломанную игрушку (SPIELZEUG), нащупывая повреждение, сжимает свой член наподобие губки – автоматизм пальцев, движение наотмашь, нет смысла, случайные сокращения. Райнер Вернер выгоняет сожителя, орет на мать, смывает порошок, слыша сирены в окне. Тогда он подходит к звукозаписывающему устройству, надиктовывая сценарий большого сериала, ведь снимать нужно, пока получается. Как? Не о политике, но политически. Не о войне, но войной. Не элегическим дистихом, но гекзаметром. Вот тогда-то и влетает в комнату сын генерала, некто по имени К. с агрессивным бебифейсом и искривленным ртом. Он пронзает живот тебе, Райнер Вернер Фассбиндер, он кричит и спрашивает у тебя, Райнер Вернер Фассбиндер, где твоя витальность, сука. Разошлись полюбовно, конечно. И мы переходим на ямб, веселя лицо, и мы говорим, что Liebe все-таки kälter als der Tod, как название фильма, о котором мы постоянно думаем, но сам фильм не видели. Тогда мы из Москвы транслируем радостно рекламу смерти с нами в главных ролях. С ямбом, естественно, с резкими склейками.
Her. 1
Троя дробится мне в ленту. У батареи все еще тепло, а кровать холодная. Она стоит в углу комнаты, и я всегда выбираю ложиться лицом к стене, чтобы пустое пространство не заливалось в меня сквозь сомкнутые веки, оно большое и страшное. Павший город – юридическая особенность, пустой документ, повестка. ВСТУПИТЬ В СИЛУ могло бы только твое тело, необязательно согревающее твою фригидную, зачеркиваю, холодную сторону постели. Спроси у меня, Пенелопы, которая прямо сейчас пишет это письмо, сколько раз твой образ уничтожался в моей нездоровой груди. Он возникает, он взлетает, он падает, в него летят копья стрелы снаряды бомбы метательные ножи сюрикены (это вообще откуда) палки осколки гнилые овощи яйца кирпичи пули. Болезненное – нетрезвое даже – сознание, построенное на смежностях, построенное на метонимиях. Таким образом, гибель Патрокла есть твой раздираемый, как хрупкий холст, торс, твой мясной торс. Казнь ШЛЕМОБЛЕЩУЩЕГО – это круги твоих глаз, для обозначения которых достаточно капли вина, размазанной по столу, а в них только радость, только кипящая смола, двойное солнце, пакеты с животным мясом, тогда же в кадр въезжает ТРОЯНСКИЙ КОНЬ твоих намерений, железные жвалы, троящиеся тела, груды оружия в полости деревянного животного, горячее, потное дыхание кучки мужчин, налезающих друг на друга, приготовивших подарок смерти по твоему собственному рецепту. Бойтесь данаос-эт-дона-ферентес, враждебные женщины, милые, вашей кровью смочены любовные руки ахейских мужей. Ожидание – это непонимание ритма, и я бью невпопад. Я была, ты отсутствовал, я говорила, а ты молчал, ты целуешь мое тело как распутанный саван, непослушные нити налипают под губы. Виртуальный секс прямиком из окопа, вебкам на военном корабле, твои обрезанные части тела, растянутые во весь экран. Улыбнись бедром или уздечкой, у тебя сто двадцать зрителей. Прием, хитрожопый Улисс, это я, девочка – твоя, как земля и как знамя. Как безупречно чисты оказываются твои руки, когда ты говоришь, что возлежал с ней на острове БЕЗ УДОВОЛЬСТВИЯ. Надеюсь, дряхлая старуха, найденная тобой в будущем на Итаке, внушит тебе нечеловеческий сатисфэкшн, когда в слезах ты будешь рассказывать о страданиях в чужой постели, икоте и заикании над устами нимфы. На саване шьется история, где надрывается каждым отверстием Улисс-оркестр, медный ор посудин его заглушают сурдины, поэтому на выходе слышен только безобразный хрип, ненормальный рев: попытка распознать похеренное тело, в ров сброшенное. Спроси у меня, Пенелопы, которая прямо сейчас пишет это письмо, во что и в кого обращался Протей, о твоей судьбе спрошенный, во что и в кого обращался Протей, твоя душа родственная, твой друг закадычный, ебаный твой рот. Так вот, что касается кадыка, который сын твой в позвоночник божества вдавливал, он сработал как кнопка, активация нескончаемой метаморфозы. Остается гадать, как выглядит удушье воды, рот дерева, хватающий воздух, губы ковра и гортензии, схватки рыбы, руки облака, за руки душителя цепляющиеся, как выглядишь ты, возвращенный.
Am. 1.6
Черным знаменем он крутится вокруг твоей шеи. Очевидность вреда реконструкций, пока пишешь о нем. В конце концов, ГОМЕР-МАШИНА, насколько мне известно, – это набор формул, закрепленных за своими позициями в стихотворном размере. Эти формулы суть имена, топонимы, костыли сюжета. Остальное вариативно (теория Пэрри – Лорда). Если бы мне надо было снять фильм по Гомеру, я бы поделил его на десять новелл, а в них одна и та же история протекает разными способами. Десять фантазмов о древней войне. Как бы войти в одну и ту же дверь, что ветвится. ПРИСЛОНЯСЬ К ДВЕРНОМУ КОСЯКУ, видишь новое помещение, такое же лиминальное, не имеющее специального содержания. Ну вот, ты сам врос в ожидание, ведь тебе нужен, например, документ, справка, регистрация, и проходы, нагруженные эротическим значением из‑за римской элегической традиции, хотя не без Каллимаха и еще пары имен, эти проходы теперь просто проходы, и дверь теперь дерево. И ты пронзаешь собой эти полости, своим телом как своим почерком расписываешься в собственной беспомощности. Еще один коридор, набрякшая шелухой бумага уже натерла, разрезала натрое руки. Еще раз – совершенная пустота помещения, но не забудь про камеру, которая повешенной головой с твоих плеч висит в каждом углу. Там было так: человеческие фигуры, стоящие у каждой замкнутой двери, шепчут что-то неразличимое, резкий щелчок, и как бы появляется фантомный звукорежиссер, движением пальцев сводящий дорожки их голосов к одному потоку, тональности все еще отталкиваются магнитами друг от друга, интонации не сводятся в унисон, на полотне шума выпирают швы, но говорят они, наконец, одно и то же. То есть тебе не кажется, что это все меньше похоже на текст для чтения. То есть открой дверь, привратник, то есть ты, сама дверь, услышь меня и откройся, то есть я, дверь, терплю унижения от древних певцов, кашляющих от возбуждения, пока внутри спит хозяйка, то есть мы, поэт и дверь, обмениваемся информацией сквозь пыльный ветер. Множество вариантов, ни один не доводит дело до конца, пока не появляешься ты, фантомный звукорежиссер, Публий Овидий Назон, пытаясь выкрутить звук на максимум, отобрать у каждого по куску, сшив это воедино повыше живота, ниже груди, на руках, на предплечьях. Конечно, вышеупомянутые люди, то есть сам Овидий, Альбий Тибулл, Секст Проперций, Гай Валерий Катулл, все они смотрят на тебя уже извращенными в рамках твоей оптики глазами и смеются, а ты унижен, вот ты лежишь на полу в луже из себя, вот тебя фотографирует небесный глаз, ты находишься в туалетной кабинке, стены которой сделаны из стекла. Что там с Гомером? Плачет на берегу моря Улисс, в плену у нимфы с говорящим именем Калипсо, слезы по бороде, тот самый Улисс, некогда пытавшийся ускользнуть от ахейской мобилизации, увы, неудачно. Теперь и тебя как бы призывают к ответу, и ты вроде уверен в этом голосе. Что же он выражает, тот голос, перечисляющий подлежащих призыву. Он, например, поет. REALMS OF BLISS / REALMS OF LIGHT / SOME ARE BORN TO SWEET DELIGHT / SOME ARE BORN TO SWEET DELIGHT / SOME ARE BORN TO THE ENDLESS NIGHT. Голос материализуется в очередной раз, свинцовым каблуком сапога надавливая тебе на пах, а ты кричишь, кричишь ты, нечленораздельное что-то выражая, цитируя кого-то, никого и всех одновременно. Ты на похоронах еще одного мужчины, погибшего от передоза в съемной квартире, что слышал? Там, за деревом, забалтывается Хаксли кислым языком, взахлеб несет в глаза твои речь, из которой сложно что-то выцепить. Например, неуместное замечание о совпадении кислого языка и трезвого разума гения. Пройди мимо, на могиле рюмка и шоколадные конфеты. Получается, если верить ему, я сейчас размазан по плоскости ровно так же, как Иоганн Себастьян. Пах, точнее, тот ореол, что так называется, сожжен каблуком голоса в золу и мясо. Нить изгнания поддевает прямоугольник кадра, проникает внутрь и выходит, вытесняет тебя за пределы. Ты все еще не ответил. На это было трудно ответить. Да, перспектива выглядела довольно странно, и стены комнаты, казалось, уже не смыкались под прямыми углами. Однако я не видел никаких пейзажей, никаких громадных пространств, никакого волшебного роста и превращений зданий, ничего, даже отдаленно напоминавшего бы драму или притчу. Конечно, ты мог бы задействовать здесь голос большого поэта, сказать об авторе на месте разлома или о тех, кто не написал ни строки после падения Берлинской стены, сказать о тех самых, кто несомненно рожден для СВИТ ДИЛАЙТ, пока грубая боль пульсирует ниже живота, будто вы срослись с Протеем как-то неверно. Момент совпадения CRIME SCENE, места преступления, и съемочной площадки. Сам себя ты очерчиваешь мелом на полу, и собирается что-то ниже груди, на руках, на предплечьях, и выкипает в зеркальную поверхность внутри силуэта. Ответ твой – сквозняк, бурлящий вверх из-под древесины, из подвала. Черным знаменем он крутится вокруг твоей шеи.
Her. 13
Окно как предлог для истории. Мерзнут руки, и я стою с кулаками наготове, согревая пальцы. Дети в сугробах шумно играют в Афганистан. Желание делать это по-настоящему, ведь условность игры не позволяет понять, кто остается в живых на самом деле. Ты убит, нет, ты убит, я в тебя стрелял, и я был первый. Мертвая девочка или мертвый мальчик, скрыт: ая большой шапкой, бросает новогоднюю игрушку в роли гранаты за бугор сугроба. Ожидание алого знака на деревьях, что подсказал бы гибель юного соседа по лестничной площадке. Я через двор не пойду. Было бы слишком опрометчиво. Электрики вешают красные гирлянды в саду. Праздничный стол на двоих, новогодняя речь. Всегда обезвоженная, напиваюсь кипящей смолой из вдового чайника, вскрываю пакеты с животным мясом, пока за стеной висит: «Перестань разговаривать со мной как с мужчиной». Сочиняю монолог о бессмысленной войне и сразу же бью себя по губам, произнося его вслух, но между сочинением и ударом остается промежуток, внутри которого я могу проследить движения своей головы, она отворачивается вправо, резко выкручивается влево, как крышка бутылки. Тогда я опять, пока не стемнело, поворачиваюсь к окну: какие-то синие флаги на ветру, который заливается в уши сквозь щель в пластике. Лучи сверху черпают угловатыми руками снег, бросая его в меня. Я пытаюсь смотреть на солнце, скашиваю глаза в одну точку, теперь это двойное солнце, желающее слиться воедино. Светлее не стало, скорее наоборот. Будто затмение, будто огромным ковшом выкорчевывается весь двор, настоящая беда, крик заведующего, который падает в пропасть, мол, я все еще главный, я с тобой, я тебя вижу. Расслабляю глаза, и солнце все же сливается воедино. ОПАСНОСТЬ МИНОВАЛА, и все снова – снова все танцуют, все играют в снежки, и они вонзаются в глубокие узкие впадины древесной коры. Кора́ твердая и царапает кожу, когда касаешься, а я, ко́ра, κόρη, девушка, какая – еще не поняла. Такая. Может быть, я тут стою фигуркой, всегда молодая, в статичной позе, в традиционной одежде, с архаической улыбкой на устах. Так и буду стоять, чтобы твое ограниченное воображение, полное механических движений, не знающее разницы между положением ладони на смертоносном древке и на члене, воображение, вобравшее в себя только мой бессловесный фотообраз, совпадало со мной в режиме реального времени. Потом я поднимаю руки, на лбу выступает пот, я открываю рот, теперь я неуловима: взвожу курки, разряжаю оружие, живу одна со своим телом, живу в тело. В стекле как бы твое отражение, напоровшееся на чей-то штык, и ты гоняешь по венам бесконечный металл, перевариваемый собственным сиянием. Будь любезен со своим убийцей! На войне умереть первым – дорогое удовольствие. Говорят, в древних цивилизациях вору отрубали руки, лжецу резали язык, трусу выкалывали глаза, а первого убитого в походе расстреливали. Для начала ты пишешь сочинение на тему КАК Я СТАЛ ПРЕДАТЕЛЕМ, а потом в тебя стреляют, текст сочинения вывешивают в школе для будущей работы над ошибками. Дети дружно кричат слово ПРЕДАТЕЛЬ, бряцают оружием – тут большой набор: двустволки, обрезы, автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, дробовики, штурмовые и снайперские винтовки, коктейли Молотова, лимонки, ручные гранаты, ядерные снаряды, химическое оружие, ножи и грозы, розочки, камни, огнеметы, копья, динамит, мины, шпаги и т. д. Тот, кто издаст шумы громче всех, получит оригинал текста сочинения. Ребенок кладет запачканный лист на учительский стол, достает из кармана зажигалку (больше не нужно оправдываться перед мамой, откуда она взялась в рюкзаке) и сжигает написанное. Огонь горит недолго, но ярко, дети хлопают, тянут руки в сторону горения и сразу же выстраиваются в очередь к раковине, чтобы эти самые руки вымыть, ведь дальше играет государственный гимн, во время которого одной из этих самых рук, а именно правой, нужно схватить сердце покрепче, до сока, и он звучит громко и четко, сквозь хриплый перегруз оркестра слышны отдельные слова:
<…>
был я случайно в нынешней чайной понял секрет
нас просто нет
вот беда
и в принципе видимо не было вообще никогда
<…>
Поэтому ты подходишь к своему убийце и говоришь: Милый, милый убийца, поцелуй меня, разбей меня, размажь меня, вытри о доспех, но давай я буду не первым убитым, а сразу вторым. А первым никто не будет. Первый поединок на поле брани на этот раз ни о чем не скажет: тут ни победы, ни поражения, ничего. И напишут на моей могиле: ТУТ ЛЕЖИТ ПРОТЕСИЛАЙ, ОН БЫЛ УБИТ ВТОРЫМ НА ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ, А ПЕРВЫМ УБИТЫМ ОН НИКОГДА НЕ БЫЛ. Не милые ли это слова, говорит твой убийца в красивом шлеме. Не добрые, не честные, не справедливые? Он оказывает теплый прием, совершает обряд вторичной смерти, и ты, спокойный, вроде каменный курос, κοῦρος, лежишь, держась за голое сердце – покрепче, до сока. Тело твое тает на побережье чужой страны, как тает восковой образ тебя на моем подоконнике. Я подношу огонь, а искусственная плоть бежит огня, как отталкивается магнитная стружка. Голова становится похожа на разбитое горлышко вина, ощущается явное проседание, будто струны, погруженные под воду или резко сменившие строй. Вот я и смотрю в окно, потом на блестящую лужу из тебя, потом снова в окно, и думаю, как бы в новом году не вернулось твое возбужденное Я-ПРОСТО-ВЗРЫВАЮСЬ-НА-ЭТОМ-ТЕКСТЕ.